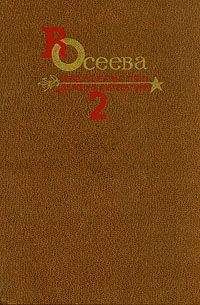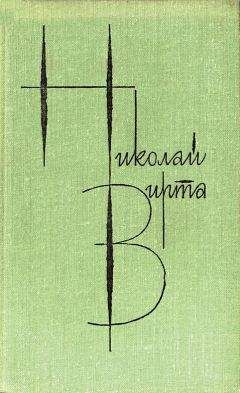Валентин Катаев - Собрание сочинений в девяти томах. Том 1. Рассказы и сказки.
— Да, да. Товарный вагон, и в дверях человек в синих галифе с маузером.
— Что ни говорите, а Россия удивительная страна и русские удивительный народ. Я часто бываю за границей. Нас там боятся, честное слово.
Еще бутылка красного вина, и он рассказывает мне о своей жене, о своей несчастной жизни и о своей скрипке, на которой он играет не дома, а только в путешествиях.
Потом вечер, прибавляющий вина, жара и грусти.
Лампочка в купе наполняется желтым светом. Сосед наигрывает под сурдинку нечто жалостное, но мало убедительное. Жар прибывает. Вагон покачивает. Соседи укладываются спать. Пустота незаполнима. Пуд борется с булавочной головкой, сознание уходит, красное одеяло режет глаза, свежеотремонтированный вагон начинает пахнуть тем сложным запахом краски, клопов, железа и электричества, каким несколько лет тому назад пахнул вагон, в котором меня везли, больного сыпняком, с бронепоезда в тыл. Вода, которую мне кто-то с неразборчивым лицом подает в зеленой кружке, тепла и противна, как брюшной тиф. Силы иссякли, и сутки поворачиваются вокруг меня колесом, на котором медленно зажигаются и медленно гаснут вперемежку окно и лампочка. Ночь. Поезд стоит. Кто-то из другого мира говорит: «На мосту крушенье. Сейчас будем переходить в другой поезд через мост».
Значит, без перебоя, без провала, спокойно все-таки в России нельзя.
Мои вещи забирают, я с трудом выхожу из вагона. Ночь, вьюга, снег. Много людей, и все куда-то идут с вещами. Холодно, страшно и хочется лечь спать в снег. На мосту горят костры. Они напоминают фронт, бронепоезд, солдат и нищие, счастливые дни военного коммунизма. Они так же неповторимы, как неповторима любовь. А разве любовь неповторима? Нет! Ничто не входит и не выходит из мира. Все было, есть и будет.
Завтра я буду в Москве. От прошлого у меня есть еще золотые монеты. С ними расправиться нетрудно. Ледяной фужер шампанского в «Ампире» и рысак в капоре, скалящий острые зубы и косящий ревнивый глаз, как злая красавица времен Директории.
— К цыганам. Пади. А там мы посмотрим.
Рысак рвет с места в карьер, морозная пыль окружает зипун возницы облаком игольчатой возни воздуха. Фонари рушатся. Пустота незаполнима.
Иван Иванович, не беспокойтесь, опасность пока миновала. Вашему семейству не угрожает разгром. Спите спокойно, мечтайте о долларе, а в свободное от этих занятий время американизируйтесь.
Кстати, у вас уже починили крышу?
Только, пожалуйста, не учите меня больше жить.
Отныне я буду жить сам.
Завтра я загляну к вам часиков в семь.
Мне хочется посмотреть в ваши синеватые глаза при вечернем освещении. Ваша сестра? Благодарю вас, она чувствует себя превосходно, много работает и выглядит свежо.
И еще хочется при встрече сообщить издателю, что медь в равной степени по очереди и торжествует, и плачет о погибшей молодости. Как и всё в мире, впрочем.
1923
Родион жуков[41]
Вольный картузик обязательно не налазит на обширную, ежом стриженную голову, и козырек обязательно съезжает со лба на сторону, куда-нибудь поближе к уху; штаны, хотя бы и закатанные по-рыбацки выше колен, топорщатся добрым флотским сукном, и запылившиеся тесемки исподних болтаются вдоль крутых, как булыжник, икр; ситцевая рубаха с васильковыми стеклянными пуговичками, аккуратно заправленная в брюки, облегает широкую грудь и надувается на спине пузырем...
Одним словом, какое бы барахло ни напялил на себя матрос Черноморской эскадры, как бы ни прикидывался вольным, куда бы ни отводил свои карие глаза с опаленными топкой ресницами — ничто не поможет. Все равно каждый встречный-поперечный увидит, что это не простой батрак из немецкой экономии, не рыбалка, шатающийся ради праздника из своего камышового куреня на баштан к девкам, не бродячий цыган, охотник до чужих лошадей и дынь...
И рябой урядник, прыгающий в клубах белой, как мука, пыли на кожаных подушках рессорной немецкой брички, поравнявшись на проселке с таким человеком, обязательно высунет из холщового капюшона свое страшно глупое лицо с кукурузными усами, поправит под пылевиком шашку и, чихая на солнце, тревожно подумает:
«А не нравится мне этот человек! Не забрать ли милого друга с собой да не поворотить ли обратно в волость?»
Но лошади, отбиваясь свистящими хвостами от слепней, бегут шибкой полевой рысью — только что разбежались как следует! Перепелки шныряют по жнивью, воздух лениво обтекает горизонт, и в его горячем течении плывут, колеблясь стеклянной зыбью, стебли трав, обкошенные могилы, копны и полынь, растущая на межах. А там, смотришь, впереди уже завиднелись над зеленью испаряющиеся коллодием черепичные крыши экономий, мачта кордона, беседка над обрывом и яркое, как синька, отрадное море. Куда уж тут останавливаться и с полдороги возвращаться обратно! Самое время теперь купаться, и к помещику сегодня зван на праздник. Досадно не быть.
Да и подозрительный человек остался далеко позади. Может, его уже и вовсе нет на дороге. Может, он свернул по своей нужде в кукурузу, присел над серой, туго полопавшейся землей среди толстых, узловатых палок и смотрит, вытянув шею, на кочанчики, плотно обвернутые в жесткие острые листья, из которых не пробиваются юные русые волосы, а зеленые металлические мухи стоят над ним звенящим роем. Поди ищи его. «А, да ну его! — думает урядник, пряча лицо поглубже в капюшон. — Мало ли их тут шатается по-над границей всяких флотских, беглых, которые... Авось бог милует... Нехай гуляет, пока не повесят».
И катится пыль колесами по проселку; слабый ветерок относит ее вместе с дилиньканьем колокольчика в сторону, как кисею, и, словно сквозь шелковое сито, сквозь воздух она оседает тончайшим порошком на морщинах флотских штанов (от пыли они делаются бархатные), на ячменных бровях и на чуть курчавых, опаленных знаменитым огнем ресницах вышедшего из кукурузы, с ремешком на шее, человека.
IIВ числе семисот матросов, высадившихся с броненосца «Потемкин» на румынский берег, был Родион Жуков. Ничем замечательным не отличался он от прочих матросов мятежного корабля. С первой минуты восстания, той самой минуты, когда командир броненосца в ужасе и отчаянии бросился на колени перед командой, когда послышались первые ружейные залпы и трупы некоторых офицеров полетели за борт, когда Матюшенко, коренастый и ладный, словно отлитый из бронзы, с треском отодрал дверь адмиральской каюты, — с той самой минуты Родион Жуков жил, думал и действовал так же, как и большинство остальных матросов — в легком тумане, в восторге, в жару — до тех пор, пока не пришлось сдаваться.
Никогда до сих пор не ступала нога Родиона на чужую землю. А чужая земля, как бесполезная воля, широка и горька.
Непривычно красив и бел показался Родиону Жукову город Констанца. Множество всякого интересного народу вышло на пристань встречать, как героев, русских моряков. Тут были лодочники в полосатых тельниках под пиджаками, и таможенные чиновники в пелеринах, застегнутых на груди пряжками в виде львиных голов, и хозяева турецких бригантин в фесках, и господа с биноклями, и дамы в узких жакетах с буфами на рукавах, и множество прочего городского люда. Нарядные зонтики и соломенные шляпы двигались по зеленой синеве глубокого, неспокойного моря. Шлюпки подскакивали на крутых волнах, терлись скрипучими уключинами о дикий камень набережной и с плеском ухали вниз, в пахнущий бычками мрак.
Полицейские оттесняли от матросов напиравшую толпу. Офицеры то и дело прикладывали пальцы в лимонных перчатках к расшитым золотыми ветками околышам кепи и извинялись перед дамами. Дамы махали платочками. Толпа кричала «ура».
Среди сочувствия, шума и общего любопытства, стесняясь и разминая широкие плечи под тяжестью своих угловатых ладных сундучков, прошли матросы через пристань и вступили на мостовую города. И потом на казарменном дворе фотограф с ужасно черными бакенбардами раздвинул длинную гармонику своего аппарата и, сунув напомаженную, завитую голову под темное сукно, как одноглазое чудовище о пяти ногах (две свои, три деревянные), гремя и блистая медными винтами, полез, скрипя, на матросов...
И двадцать с лишним лет прошло с тех пор.
Где только не побывала эта лиловая, глянцевая фотография-группа, наклеенная на грубый картон, разукрашенная затейливыми штемпелями и медалями с парижской выставки! Долгое время выгорала она на солнце в витрине констанцского фотографа под холщовой маркизой с розовыми фестонами, была она затем отпечатана во французском иллюстрированном журнале и перепечатана в американском; купленная на память, лежала она не в одном сундучке под чистой голландкой с синим воротником и бритвой в дешевом футляре на самом дне, оклеенном обоями, и в сумрачной канцелярии одесского охранного отделения на столе подле полукруглого окна ее тщательно подшивал захудалый делопроизводитель с янтарными от табака ногтями, а потом, на докладе, полковник в коротком мундире, распространявшем запах штиглицевского сукна и одеколона, скользя по ней вываренными рыбьими глазами и показывая мизинцем, спрашивал филера: «Этого знаешь? А этого, который сидит без фуражки, кто таков? Не Жуков?..»