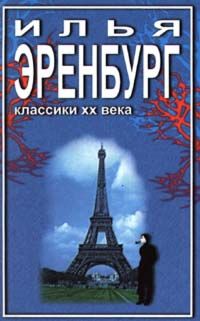Илья Эренбург - Жизнь и гибель Николая Курбова. Любовь Жанны Ней
Пляшет стрелка. Это так скоро, скорей нельзя. Если скорей, Пуатра, пожалуй, поведут в комиссариат. Габриель не видит стрелки, не видит несущихся навстречу домов. Но она слышит ветер. Ветер все острей, все шумливей. И слепая шепчет Жанне:
— Кузина, мне кажется, что мы куда-то спешим. Ведь нам некуда спешить. Надо было в лавочку, но это же на нашей улице. А мы так спешим, как будто мчимся к кому-нибудь в гости, К кому же?
— К счастью!
И Жанна смеется. И смеется Пуатра. Лизетт его сегодня пустит в старый фургон. Да, они мчатся прямо к счастью!
Мотор, дорогой мотор, скорее! Пусть трясутся в возмущении жиры господина Нея: он сегодня не получит улиток. Он будет рычать, как целый зоологический сад. Все равно! Пуатра потерял весь день, он заплатит хозяину штраф. Все равно! Темно и тепло будет в фургоне. Педаль. Колесо. Рожок. Субъект в цилиндре, посторонитесь! Мы мчимся! Мы мчимся к счастью в гости!
Глава 18
О ЧЕМ ГОВОРИЛ ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ САД
Они молчали. Напрасно было бы припоминать все языки мира, перелистывать самые толстые словари Ларусса или Даля. Таких слов просто не существовало. Выговорить всю радость этой минуты, судя по большим часам на Люксембургском дворце, самой обыкновенной минуты, четвертой минуты шестого полуденного часа, могло только молчание. Теперь оно не было рождено ни запретом Жанны, ни страхом Андрея. Нет, Люксембургский сад не напоминал развалины Орлута! Это молчание, блаженное и звонкое, полнилось не только всеми словами многотомных словарей, но и вовсе не слышными звуками: счетом воды, походкой сердца, скрипом песка, может быть, даже сказочным ростом травы, норовившей уже выскочить из-под земли, чтобы увидеть влюбленных. Если бы можно было всегда так молчать, люди, наверное, давно бы сожгли и Даля и Ларусса.
Андрей и Жанна могли так молчать: за них говорили другие. За них говорили хотя бы эти каштаны, нетерпеливые каштаны, с распухшими от волнения ветками. Другие деревья не спешат: ясень цветет в апреле, платан в мае, а ленивица липа даже в июне. Но каштанам всегда некогда. Под липами будут шалить лицеисты между двумя экзаменами. Но куда же деться влюбленным в марте? А в марте ведь особенно много влюбленных. И старые каштаны спешили убраться белыми свечками. Ни Андрей, ни Жанна, наверное, не умели различать породы деревьев, к тому же безлистых. Но они встретились именно под каштанами, и каштаны за них говорили.
За них говорили также дрозды, веселые черные дрозды в модных смокингах. У Рима есть мрачные, почти мифологические ласточки. На Пречистенском бульваре забористо ссорятся воробьи. А по Люксембургскому саду, посвистывая, прыгают насмешливые дрозды. Но в тот день их свист не означал ни насмешки, ни порицания, нет, они свистели от добрых чувств.
В бассейне, среди прошлогодних рыжих листьев, золотые рыбки проделывали сложные пируэты. Да, как это ни покажется странным, даже рыбы, прославленные своей молчаливостью, ударяя хвостами воду, говорили за них.
За них говорили новорожденная весна и старый Люксембургский сад, со всей его флорой и фауной.
По соседней дорожке рассеянно шагал молодой человек. Трубка его давно погасла. Он мог бы радоваться: вчера он впервые увидал свою элегию напечатанной в тулузском журнале спорта и мод. Но сейчас он не радовался, сейчас он был очень озабочен; он сочинял другую элегию и никак не мог подыскать нужного ему ассонанса. В голову лезли одни только рифмы, а поэт хорошо знал, что рифмы — устаревшая вещь. Он натыкался на скамейки, он все время шевелил губами. Тема его новой элегии была еще неясна ему самому, но это несомненно была история Жанны и Андрея. Ведь никто в Люксембургском саду сейчас не мог говорить о другом.
Возле мраморной Жорж Санд девочки играли в серсо. Они весело верещали, но совсем не потому, что соломенное колесо попадало на палочки. В сердцах двух взрослых детей, не игравших в серсо, ведь было много ребяческого веселья, и девочки верещали за них. А Жанна и Андрей молчали.
Какой-то школьник остановился у апельсинового дерева в кадке, у того, что слева у дворца. Все школьники лицея Сен-Луи знали, что, если обойти это дерево три раза, учитель математики, независимо от познаний, поставит высокий балл. Но на этот раз школьник обошел дерево вполне бескорыстно: он ведь возвращался домой, а дома не было никаких учителей. Не оберегали ли суеверно двое влюбленных, молча сидевших на скамейке под каштанами, свое позднее счастье?
Нечего говорить о том, что бородатый Верлен, на лысине которого отдыхали веселые дрозды, все время декламировал самые нежные, самые трогательные из своих стихотворений. Бедный беспутный Верлен, он уже пятьдесят лет тому назад начал говорить за них.
Единственным исключением являлись старые сенаторы, которые, не выдержав длиннот заседания, зевали возле окон. Увидев дроздов, серсо, влюбленных и весну, они разозлились. Правда, в этом не было прямого нарушения одобренных ими законов, но все же и весна, и влюбленные, и даже дрозды напоминали им о чем-то неприятном: не то о похоронах, не то о революции. Но кто на них обращал внимание? Среди фауны Люксембургского сада они были старыми барсуками, а барсуки — это очень угрюмые звери. Все же остальные обитатели большого сада, включая сюда и траву и деревья, радовались, не просто радовались, а радовались за Андрея и Жанну.
Они же молчали. Любовь была неумолимым цензором, она запрещала все слова. Андрей как взял руки Жанны, так и не выпустил их. Милые смуглые руки! Он их больше никогда не выпустит! Андрей, взбалмошный, переменчивый Андрей был теперь тверд и ясен. Андрей заработал любовь. Жанна для него не случайный выигрыш, не счастливая карта. Ведь это же разлука провела две борозды возле недавно еще беспечных губ. Он любил ее теперь дико и просто, как тяжелую добычу. Андрей больше никогда не выпустит этих рук! Никогда!
Они и не хотят уйти. Где все сомнения Жанны? Может быть, она поглупела? Ведь она больше ни о чем не думает. Она теперь не ищет объяснений в любви, не пытается быть умной или благородной. Она просто любит. Как будто вместо трагических котурн на ее ногах оказались снова неуклюжие сабо луареттской девушки. Она не спрашивает об Аглае. Если Аглая сейчас умрет от горя, Жанна все равно не вырвет из рук Андрея своих рук. Она не думает, сможет ли быть достойным товарищем Андрея, готовить с ним революцию. Она любит теперь революцию, она любит Россию. Но что нужно делать, этого она не знает. Андрей ей скажет. В руках Андрея теперь не только ее руки, но и вся жизнь. Как это просто! Нет, Жанна не поглупела. Она только стала взрослой. Она выросла из того, орлутского, горя. То горе было горем роста. Если придет другое, настоящее, неотвратимое, Жанна его примет. Она покажет, что и в сабо можно быть высокой, для этого не нужно становиться на цыпочки, горе высит само. Теперь же она радуется, и радость эта тиха, целомудренна, ясна.
Наконец молчание разорвалось, как снаряд, начиненный жужжащей шрапнелью. Кажется, весь Люксембургский сад был засыпан словами. Здесь не было длинных фраз: они слишком часта дышали, и внезапные цезуры обращали рассказ в груду несвязных восклицаний, ласковых прозвищ, почти заумных слов. Слова эти неслись, как на скачках, стараясь обогнать одно другое хотя бы на слог. Каждую минуту они замолкали, спохватившись, что не рассказали самого важного. Тогда руки договаривали то, чего не сумели сказать губы. Это не были слова любви. О своей любви они не могли говорить. Это прозвучало бы, как внезапное признание: «Знаешь, я дышу воздухом». Но о чем бы они ни говорили, это было только об одном: о любви. Когда Жанна рассказывала о константинопольской гречанке, Андрей понимал: я там без тебя умирала. И Жанна, услышав о сонном Ковне, обрадовалась: и он, и он, как я!..
Была одна опасная минута. Андрей спросил Жанну, как ей живется теперь. Люксембургский сад тревожно насторожился. Даже дрозды замолкли, ожидая ответа, а вода приготовилась к тому, чтобы заплакать. Неужели прозвучит здесь повесть о зловонной конторе на улице Тибумери? Нет, Жанна ничего не расскажет. Она так бережет свою первую радость. Ведь ее слова измучат Андрея, ему и так нелегко. Она промолчит. Она расскажет об этом когда-нибудь, не теперь! И на вопрос Андрея, Жанна коротко, спокойно ответила:
— Ничего. Но мне нужно оттуда переехать. Там для меня нет комнаты.
Это было все, и после этого они начали говорить о будущем. Андрей на днях раздобудет деньги, теперь у него нет своих, только партийные. Тогда Жанна переедет в маленькую комнату. Хорошо, если это будет мансарда, с окошечком в небо. Тогда в комнате окажутся звезды. Она хочет читать, много читать. Она должна знать, как работать вместе с Андреем. Андрей будет к ней приходить. О дальнейшем не было сказано ни слова. Нет, только это: будет приходить. Но оба знали: значит, в комнатке будут действительно звезды. Андрей уедет на месяц-другой в Тулон. А летом? А летом в Москву!