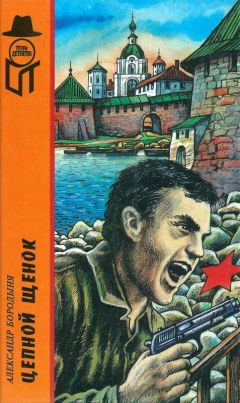Александр Червинский - Шишкин лес
— Дядя Леша видел такой документ?
— Нет.
Сорокин и Петров в машине напряженно вслушиваются в голоса из динамика.
— Я не понимаю, — говорит Маша.
— Ну, я ему должен был доказать, что это политическое убийство, — говорит Степа. — Мы же без Сорокина столько денег бы не достали. И я боялся за вас всех. Ведь они уже похищали Петьку. И я боялся, что они опять...
— То есть ты про эту бумагу, которую Леша видел, Сорокину наврал? — спрашивает Маша.
— Ну д-д-да. Чтоб он точно приехал.
Пилот в кабине вертолета тоже слышит это признание и изумленно качает головой:
— Твою мать.
Сорокин молча хватается руками за голову.
— Ну дед, ты даешь, — звучит из динамика голос Маши. — Все. Я больше не могу. Только отвернись.
Уходит. Слышно чавканье ее ног по мокрой земле.
— Ну и семейка, — говорит Сорокину Петров. — Ладно, неси им кофе. Когда кто-то появится, мы тебе заранее посигналим.
Сорокин с термосом в руках выходит из машины.
Степа стоит у креста один. Дождь припустил сильнее. Маша возвращается из темноты. Вид у нее совсем потерянный.
— Я понимаю, я нехорошо п-п-оступил. — Степа снова обнимает ее и прижимает к себе. — Но я тогда п-п-подумал: вот мне уже восемьдесят пять, и Лешенька п-п-погиб, и вы все не очень счастливы. Ты издергана и одинока. У Кати с Таней все совсем п-п-плохо. Макс, в свои шестьдесят лет, неустроен и неуверен в себе, как п-п-подросток. Антошка весь в долгах. Нина дружит с Ксенией, которая испортила ей всю жизнь. Ксения пьет. И я подумал: а зачем я, собственно, жил? Зачем жили Чернов и Полонский, Варя и Дашенька? Если в результате вы все несчастливы, все эти жизни были бессмысленны. И все бессонные ночи, и стихи, и музыка, и талант, и успех — все бессмысленно. Потому что — вот оно, все кончается полной катастрофой. Лешеньку убили, и скоро еще кого-то из нас убьют. И я должен что-то сделать, чтоб вас уберечь. И я ему наврал. Не плачь, деточка, зато он нам теперь помогает. Не плачь.
— Да не поэтому я плачу.
— А почему?
— Я не беременна.
— Я не понимаю?
— Ну что тут понимать.
Петров в машине и пилот в вертолете прислушиваются.
— А почему ты думала, что беременна, а теперь вдруг решила, что не беременна? — спрашивает Степа.
— Ну, деда, не хочу я обсуждать эти медицинские подробности. Не беременна, и все.
То она этого ребенка хотела, то расстроена, что его не будет. Николкинское недержание идеи. Степа прижимает ее к себе и гладит по голове. И тут она видит поверх его плеча вынырнувшую из темноты фигуру. Вздрагивает. Но фигура оказывается растерянно улыбающимся Сорокиным с термосом в руке.
— Он здесь? Какая мерзость! — вскрикивает Маша и отталкивает Степу. — И ты знал, что он здесь?
— Ну откуда же я мог знать? — врет Степа. Современные молодые критики пишут, что мой папа — самый лживый из советских литераторов. Это неправда. Так, как он, врали многие. Но врать папе, конечно, приходилось часто. Особенно в восемьдесят третьем году, после того как Макс остался в Англии.
2
Лето восемьдесят третьего. Глубокая ночь. Кукует в лесу кукушка. Грохочет вдали длинный товарняк. Окна в нашем доме открыты и темны. И вдруг оттуда доносится тонкий жалобный вой моего папы.
Ему семьдесят один год. Он кричит во сне и просыпается оттого, что моя мама тормошит его. Ей семьдесят два года.
— Степа, милый, проснись! Что случилось? Ты во сне плакал.
— Мне приснилось, как будто тебя рядом нет.
— Я здесь.
— И как будто я умер.
— Ну, и как там, на том свете? — обнимает его Даша.
— Ужасно глупо. П-п-представляешь, там п-п-приемная, как у Суслова. Референт и две секретарши. Такие п-п-пышные блондинки.
— И ты им надписывал свои книги?
— Нет. Они сказали, что меня не примут.
— Куда не примут? В рай?
— Вообще не примут. Ни в ад, ни в рай.
— Почему?
— Не объяснили. Просто не примут, и все. И это почему-то было очень страшно.
— Это потому, что ты все время думаешь про Макса. Давай выпьем, а?
— Давай.
Они стоят у буфета. Даша кутается в халат. Степа наливает себе и ей красной водки.
— На выборах в секретариат Союза писателей меня теперь, конечно, п-п-п-прокатят, — говорит он. — И Лешку уже не выпустили в Канны. И отменили твои гастроли в Италию. И Коте надо поступать в институт.
Папу вызывали в ЦК и намекнули, что надо написать письмо с осуждением поступка Макса. Это они с мамой и обсуждают.
— Леша такое письмо не подпишет, — говорит моя мама.
— Достаточно, если подпишем мы с тобой.
— Ты уверен?
— Так они г-г-говорят. И они не требуют, чтоб мы от Макса отказывались. Не надо даже писать, что мы его поступок осуждаем как антисоветский. Достаточно указать, что мы не разделяем взгляды и преданы Родине и п-п-партии. Вот, смотри.
Достает из ящика буфета лист бумаги с текстом.
— Ты что, уже написал?
— Да. Видишь, я тут, поскольку мы не члены, слово «партия» даже не пишу. Просто «преданы Родине». А ведь это так и есть. Мы же Родине преданы. Тут все искренне.
Письмо, осуждающее Макса, я так и не подписал, а мои родители подписали, и оно было опубликовано в «Литературной газете». После этого многие перестали с папой здороваться. Но он остался секретарем Союза писателей, и запрет с поездок был снят. А через месяц умер Василий Левко.
Вот он, наш главный враг, восьмидесятитрехлетний Василий Левко, лежит в гробу. У него нездешнее, спокойное лицо. Рядом Павлик Левко, в парадной форме прапорщика, Женя Левко, в трауре, и пятидесятиоднолетняя Зина Левко — в ярком кокетливом платье.
Моя мама кладет на гроб цветы.
Когда он умер, Павлик был в армии, кстати, в Афганистане, Женя со своим мужем Васюковым в Шишкином Лесу бывали редко, а у Зины опять было ухудшение ее болезни. Зина пять дней никому не говорила, что ее отец умер. Когда моя мама пришла положить на гроб цветы, в доме был ужасный запах. Поэтому вокруг гроба горело очень много свечей. Похоронили его на Новодевичьем, недалеко от могил Черновых, Полонских и Николкиных. А потом умер Брежнев.
На крыльце у двери Николкиных красный флаг. По телевизору показывают государственные похороны. Духовой оркестр играет похоронный марш. По улице мимо Колонного зала генералы в длинных шинелях несут на подушечках ордена.
А потом умер Черненко. Все знали, что и Андропов вот-вот умрет. Но в Шишикином лесу ничего не менялось. Только теперь с нами жили выгнанные из Ашхабада Лариса с Антоном.
На веранде кипит самовар. Семья Николкиных пьет чай с тортом. Тринадцатилетний восточный красавец Антон аккуратно ест торт ложечкой.
— Антоша, — говорит Степа, — торт надо есть не ложечкой, а в-в-вилкой.
— Почему?
— Потому что я, твой д-д-дедушка, ем его вилкой. Уж такая у нас семья. И твой прадед Полонский ел торт вилкой. И прапрадед Чернов ел вилкой. И твоя кузина Маша ест вилкой.
Услышав это, Маша демонстративно бросает вилку и ест торт руками.
Только Макса с нами не было. Макс теперь жил в Англии у Полы Макферсон.
3
Макс, одетый в шелковое кимоно, сидит за письменным столом перед пустым листом бумаги. Гудки автомобиля. Хлопает дверца. Кошки из всех комнат бегут встречать Полу. Макс тоже идет ей навстречу.
— Сейчас Линда привезет своего друга Тонго, — объявляет Пола. — Представляешь, он тоже театральный режиссер. Из Кении. Я решила, что будет неплохо, если он поработает с тобой над нашим спектаклем. Одевайся. Они уже едут.
Макс не понимает и пугается:
— Что значит — поработает со мной?
— Я думала, ты обрадуешься.
Сидящий над головой Макса на люстре спасенный Полой попугай гадит Максу на плечо.
— Блядь кривожопая, — говорит попугаю Макс.
— Стыдно! — говорит из другой комнаты Пола. Она сидит перед зеркалом, накладывает косметику.
— У бедного животного только одна нога, — говорит Пола, — а ты говоришь русские ругательства.
Макс жил в постоянном напряжении. Пола все время кого-то спасала. Она спасала котов, собак, тибетских беженцев, сибирских сектантов и евреев-отказников. Макс думал, что он единственный театральный режиссер, которого она спасла, но оказалось, что это не так.
— Почему я должен работать с этим Тонго? Это же мой спектакль! — говорит Макс.
— Так будет лучше. Ты в России привык по году репетировать. У нас так нельзя. Тонго поможет тебе уложиться в сроки. Он очень талантливый.
— Но это же мой спектакль!
— Противный эгоист! — Пола вбегает в комнату и целует Макса. — Тонго такой же иностранец, как ты, и ему тоже нужна работа. Что ты на меня уставился? Одевайся.
Возвращается к зеркалу. За ней преданно бегут спасенные ею коты.
— И будь с ней поласковей, с Линдой, — говорит у зеркала Пола. — Она ужасно богатая и ужасно добрая, но у нее никого нет. С Тонго у нее чисто дружеские отношения. Он мечтает поменять пол, и она ему помогает собрать деньги на операцию. Но ей самой надо помочь. Ей не везет с мужчинами, и она ужасно, ужасно одинока.