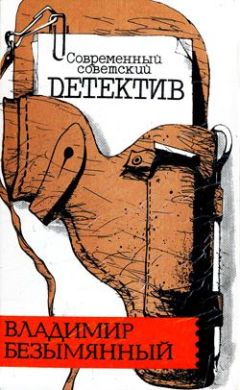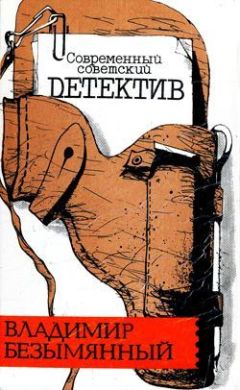Анатолий Ананьев - Версты любви
«Но завтра-то хоть поедем? — спросил я у Игната Исаича, как только он вошел в избу. — Кроме всего прочего, у меня — работа, дело!»
«Поедем-поедем, все решено, и лошади занаряжены».
«Это точно?»
«Какой разговор, прямо с утра».
«И Подъяченков с нами?»
«И Подъяченков, и Трофим Федотыч, председатель сельсовета».
«А председатель колхоза?»
«Нет. Его вообще в Чигиреве нет, он, однако, третий день как в До́линке. Может, сегодня и подъедет».
Больше мы уже не возвращались к этому разговору.
Я снова спал на сдвоенных скамьях, вернее, не спал, а ворочался с боку на бок, предчувствуя, что должно было случиться со мною завтра что-то нехорошее. «Но почему? — вместе с тем спрашивал я себя. — Зерно краденое, Моштаков существует, Моштаков — зло. Почему же?» — И хотя в самом этом вопросе был заложен как будто ясный и точный ответ и мне действительно не о чем было беспокоиться, но в памяти словно специально для того, чтобы вызывать беспокойство, возникали и объединялись отрывочные и в разное время слышанные слова и фразы: то звучал как будто голос Владислава Викентьевича: «Мы, Алексей, по-честному: мы ему, он нам. Такие люди, как он, были, есть и будут, без них нельзя. Они тоже делают своего рода доброе дело»; то голос Пелагеи Карповны: «Народ на добро памятен»; и я с усмешкой мысленно добавлял: «На добро!», то вдруг перед глазами как бы появлялся Федор Федорович со своими предостережениями, и хотя я опять возражал ему, сознавая себя во всем правым, и все же что-то было, наверное, недосказанное (что я чувствовал) и в их словах, и потому я ворочался и, как и вчера, долго не мог заснуть. Но если рассудить просто, то отчего бы и не спать? Ведь не я же совершил преступление, а Моштаков, но вот, видите...
Многое запоминается в жизни.
Но то зимнее утро было особенным.
Мы выехали из Чигирева в девятом часу — парторг Дементий Подъяченков, Игнат Исаич и я — на колхозных розвальнях, которые тащила резвая правленческая лошаденка, а председатель сельсовета Трофим Федотович Глушков — в своих сельсоветских плетеных выездных санях; он не хотел, как выразился, ни от кого зависеть, ехал позади, один, и под дугой, казалось, над самою гривой серого, в беге разметывавшего ноги коренника (я называю так потому, что конь действительно производил впечатление коренника, хотя и не было пристяжных) болтались, словно колокольчики, заиндевелые теперь, на свежем утреннем морозце, кисти из белой сыромятной кожи. Я сидел на розвальнях так, что мне были хорошо видны то вдруг нагонявшие нас, то опять начинавшие отставать сани председателя сельсовета. Постепенно — не только кисти под дугою, но и сама дуга, и вся упряжь, оглобли, серый сельсоветский коренник, да и шапка и овчинный тулуп на Трофиме Федотовиче — все покрылось мохнатым инеем и поблескивало в лучах утреннего декабрьского солнца, и поблескивал снег, холмистой белизною удаляясь к горизонту, и видеть это, несмотря на все мое тревожное состояние, было приятно, дорога навевала покой и то ощущение силы и бесконечности жизни, какого всегда не хватает нам и, наверное, не будет хватать городским людям для полноты чувств. Наша правленческая лошаденка тоже вскоре покрылась инеем; и тулуп Игната Исаича (он правил, заиндевелыми рукавицами подергивая начинавшие тоже индеветь вожжи), и полушубок на Подъяченкове, и мой — все как бы сливалось, подсиненное инеем, и только лица краснели на морозе, и это тоже производило впечатление бодрости, красоты, силы. Когда стали подъезжать к Долгушину, я повернулся и, приподнявшись, стоя на коленях, из-за плеча Игната Исаича смотрел на открывавшуюся взгляду зимнюю у замершей реки деревушку. Не знаю, о чем думали и как влюбленными ли, или равнодушными взглядами окидывали все вокруг Игнат Исаич и Подъяченков (откровенно говоря, мы неверно судим, называя деревенских людей равнодушными; они лишь не мельтешат, не проявляют внешнего восторга, как мы, но смотрят на все, несомненно, с восхищением и любовью, и эта любовь как раз и держит их у земли, в деревне), я же не мог, да и до сих пор не могу без волнения смотреть на зимние ли, заснеженные, или летние, словно затерянные в желтеющих хлебах, наши русские деревеньки. Чувство это, пожалуй, трудно объяснимо. Я вовсе не за старину; та жизнь, что пришла и еще приходит в села, совсем, разумеется, иная, лучше, светлее и чище, и все же жаль мне уходящие деревеньки с их неровною, не прямолинейною, но душевно широкою, раздольною планировкой, с избами под соломой, обнесенными плетнями и огородами, с той очевидною на взгляд связью с прожитыми веками, с историей, героической и тяжелой, которая, кажется, так и смотрит на тебя низкими окнами с бревенчатых почерневших стен, и жаль, наверное, потому, что вместе с этой, несомненно отжившей свое стариною уходит, рушится связь времен, поколений. Может быть, я не прав; может быть, то детское впечатление, когда я с возницами-чувашами перевозил дом из Старохолмова в город, еще говорило и говорит во мне, вызывая эту как бы прощальную, что ли, грусть? Но так или иначе, а я испытываю это чувство, да и следует ли искать объяснение ему. Я смотрел на заснеженное Долгушино и, разумеется, среди других изб различал прежде всего избу Пелагеи Карповны, которая была уже для меня к тому времени вторым родным домом (сама Пелагея Карповна в эту минуту стояла на крыльце и смотрела в нашу сторону; во многих дворах мужики, было видно, прекратив расчищать снег, смотрели на спускавшиеся к деревне подводы, потому что неспроста же сюда жаловал председатель сельсовета и еще какое-то колхозное начальство на правленческих розвальнях!), и различал подворье старого Моштакова с длинною, как барак, примыкавшею к избе бревенчатой конюшней; не скажу, чтобы я особенно волновался, предвидя, как удивится и испугается Моштаков, когда в освещенной фонарем кладовой Игнат Исаич начнет открывать крышки ларей, и как удивятся собравшиеся люди и, разводя руками, будут говорить: «Надо же, а?» — а какое-то совершенно иное и необъяснимое тогда беспокойство, чем ближе мы подъезжали к моштаковским воротам, тем сильнее охватывало меня. Оно возникало, наверное, потому, что и Дементий Подъяченков и Игнат Исаич хотя ничего и не говорили, но все чаще поглядывали на меня, и во взглядах их я улавливал один и тот же вопрос: «А не соврал ли ты, парень, не влипнем ли мы с тобой в неприглядную историю, потому что как-никак, а ведь это тяжелейшее обвинение на человека?» — и сомнение их в какой-то мере, может быть, проникало и в меня и было как раз причиной беспокойства. «Куда же они могут деться, шесть ларей, — про себя отвечал я, стараясь держаться спокойнее, и лишь изредка и мельком, будто мне действительно было все равно, к кому и для чего едем, взглядывал на опушенные инеем жерди моштаковских ворот. — Да что может быть с ними, что за глупость лезет в голову!»
Игнат Исаич остановил лошадь почти под самыми окнами моштаковской избы; привязав вожжи за стойку ограды, вернулся к розвальням, и так как мы, парторг Подъяченков и я, еще разминали ноги и только поглядывали на моштаковский двор и конюшню, спросил:
«Пойдем? Или Федотыча подождем?»
«Подождем», — предложил Подъяченков.
«Не Федотыч у нас, а прямо-таки министр».
«Ну-ну!..»
«А плохих в министры не берут, — тут же уточнил он и, повернувшись ко мне, добавил: — Ну а ты как, агроном, уверен?»
«Уверен», — ответил я, и теперь уже участковый уполномоченный, может быть, подражая парторгу Подъяченкову, с той же как будто многозначительностью, как произносит эти слова, я заметил, большинство людей, проговорил:
«Ну-ну...»
Как только подъехал председатель сельсовета Трофим Федотович, мы все вчетвером тут же направились в расчищенный от снега моштаковский двор. Сам же Степан Филимонович уже стоял на крыльце и поджидал нас. Он смотрел на нас спокойным и как будто равнодушным взглядом, поздоровался степенно, с достоинством, как умеют делать это знающие себе цену деревенские люди, и на вопрос Подъяченкова: «Чего в избу-то не зовешь?» — негромко и с заметной неохотою ответил: «Милости просим». Но в избу мы не пошли. И не потому, что обиделись, что ли, для меня главным были лари; об этих же хлебных ларях, наверное, думали и парторг Подъяченков, и Игнат Исаич с Трофимом Федотовичем, и, конечно же, всем нам хотелось поскорее (уж мне-то, во всяком случае) попасть в кладовую, пока старик не догадался, зачем мы приехали, и не воспротивился, и оттого, когда Игнат Исаич, выражая общее наше желание, попросил Степана Филимоновича открыть конюшню, и Подъяченков, и председатель сельсовета дружно поддержали его.
«Глядеть-то чего хотите?» — спросил Моштаков.
«Как «чего»? Лошадей».
«А чего их глядеть?»
«Ну, раз хотим, значит, надо. Лошади... что еще там у тебя?»
«Лошади и есть».
«Вот и поглядим».
Моштаков сошел с крыльца и стоял теперь перед нами. Он не торопился открывать конюшню. Прищурившись, он смотрел на нас, и во взгляде его все еще как будто было прежнее спокойствие; но вместе с тем, может быть, я скорее почувствовал, а не то чтобы заметил, какая-то будто жесткая, холодная тень легла на его старческое лицо; да, несомненно, потому что десятки раз потом, вспоминая, я видел перед собой это лицо, все морщинки на котором выражали не ту обычную доброту и умудренность жизнью, что свойственна старым людям, а неприязнь, ненависть, или, как бы вы сказали, весь тяжелый, мстительный и скрываемый от людей мир этого человека; я и теперь вижу его лицо с розовыми еще с тепла и напущенными на глаза веками (за прищуром всегда легче скрывать свои мысли!), с бородкою, живо покрывавшейся инеем на морозе, словно седеющего на глазах, и так же, как тогда, у меня ко всему, что связано с воспоминаниями о мужичках — «мучное брюшко», подымается ответная ненависть. Я назвал свое столкновение с Моштаковым поединком; да оно и было все именно так, и потому — как запомнился вам бой с немецкими самоходками здесь, на подступах к Калинковичам, у деревни Гольцы, так и в мою душу засел тот солнечный зимний день, проведенный в заснеженном Долгушине на моштаковском подворье. Я не вступал в разговор и только смотрел на Моштакова, ни на секунду не сводя с него глаз, и мне казалось, по крайней мере тогда, что он тоже больше смотрел на меня, чем на разговаривавших с ним Игната Исаича, Подъяченкова и Трофима Федотовича. Я думаю, что так же, как вы боем, я был оглушен этой минутой своего поединка, а точнее, чувствами и мыслями, какие переполняли меня, и потому не вслушивался и не воспринимал почти ничего, о чем говорили. «Ну же!.. Ну!..» — торопил я старого Моштакова, чтобы он поскорее открывал конюшню, и на ироническую усмешку, которая то и дело возникала на бородатом и морщинистом лице Степана Филимоновича, тоже про себя, тихо, но вместе с тем как будто громко, не стесняясь никого, отвечал: «Ничего-ничего, посмотрим, как ты сейчас будешь усмехаться!» Потом-то мне стал ясен смысл его иронической — когда человек знает нечто большее, чем вы! — усмешки, но в ту минуту я думал и чувствовал так, как рассказываю теперь; я стоял чуть позади парторга Подъяченкова, и когда все двинулись к конюшне, тоже шагал следом за парторгом, заложив, как и он, словно на прогулке, за спину руки (может быть, так легче было выражать спокойствие?); но в варежках, в тепле, не видимые никому пальцы мои до белизны вминались в мягкую и влажную ладонь.