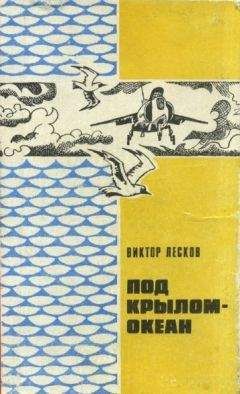Юрий Платонычев - А дальше только океан
Ручейников, видя, что члены комиссии с интересом принялись читать листки, неодобрительно, как показалось Павлову, заметил:
— От вас ожидают не аргументов в защиту, а самокритичной оценки.
— Будет и оценка, я еще не кончил, — спокойно продолжил Павлов. — Утверждать, что мы недооцениваем тренировки, значит не знать, что у нас происходит. Именно мне пришлось налаживать тренировки, так как раньше они планировались от случая к случаю. А тренировки с новой торпедой мы проводили каждый день, о чем, кстати, говорится в выводах комиссии Горина на листе четвертом…
Карелин, только что ознакомившийся с этим листком, передал его Ручейникову.
— Что касается факта, с которым несколько дней назад встретился у нас товарищ Жилин, — Павлов сузил глаза, как от яркого света, — то не могу понять, зачем об этом говорить? Да, в конце дня мы не тренировались, так как делали это с утра, что вы, Петр Савельевич, отлично знали.
Жилин снова достал свой блокнот, сделал вид, будто разыскивает в нем какую-то запись.
— Здесь упоминали, что мы со своими новинками якобы отклоняемся от устава, — продолжал Павлов. — Но устав как раз и предписывает каждому командиру внедрять все новое. Поэтому с уставом у меня и Ветрова расхождений нет. Трогать устав не надо. — Павлов поглядел в сторону Жилина. — Что до «сомнительных новинок», как вы сказали, то ведь при вас, Петр Савельевич, командующий флотом и адмирал Панкратов их поддержали. И сами вы тогда, нам казалось, тому радовались…
Жилин морщился, переводил взгляд с Марцишевского на Ручейникова и вяло, будто его оставляли силы, проговорил:
— Отсюда надо понимать, что у вас все в порядке и к потере торпеды вы отношения не имеете?
— Да, мы пока не слышали обещанной объективной оценки этого факта, — поддержал его Марцишевский.
Павлов, видя, что еще не все члены комиссии просмотрели бумаги, с ответом не торопился, а когда листки с заключением Горина Ручейников ему возвратил, закончил:
— Мы не снимаем с себя ответственности. Не буду говорить за Ветрова, но свою вину я вижу в том, что редко проверял хранение торпед, хотя, повторяю, не в нем надо искать причину потери. Как командир, вполне сознаю свою вину и за эту потерю. В технике чудес не бываем. Какая-то ошибка в действиях наших приготовителей несомненно была, и я несу за это ответственность. У нас уже много сделано, чтобы впредь подобные ошибки не допускались.
Взявший слово Ветров сказал лишь, что целиком разделяет мнение командира, а за промахи несет бо́льшую ответственность, чем он.
— С Городковым и его приготовителями я работаю уже не один год, мне и ответ держать. Могу добавить, — заключил он, — что таких инициативных командиров, как Павлов, партийной организации надо всемерно поддерживать, а не выискивать у них несуществующие отступления от уставов или другие мнимые грехи.
Наступило недолгое молчание. Ручейников вытащил расческу, но, видно, вспомнил, что недавно коротко подстригся, и с удивлением ее рассматривал.
— Кто желает выступить?
Первым встал Карелин.
— Дело ясное… Обвинения против Павлова и Ветрова считаю бездоказательными. Их самокритику одобряю, вижу в ней проявление партийности. Выяснению подлинной причины потери торпеды только повредит торопливость, о какой товарищ Жилин выдвигает свои обвинения.
Павлов слушал своего «соперника», и на душе у него теплело. Поддержали Карелина и другие члены парткомиссии.
Марцишевский, по указанию которого было проведено это обсуждение, рассчитывал, конечно, совсем на другое и вынужден был на ходу перестраиваться.
— Некоторые товарищи считают наш разговор чуть ли не разбором персонального дела Павлова и Ветрова, оперируют тяжелым словом «обвинение». — Марцишевский многозначительно воззрился на Карелина. — Это не так. И очень хорошо, что товарищи Ветров и Павлов это поняли и подошли к оценке своих служебных дел принципиально, не дожидаясь партийного расследования… В самом деле, давайте посмотрим внимательно: просчеты в хранении были? Были. А есть вина, скажем, Павлова в потере оружия? Есть. Он сам признал. Когда мы прививаем такой дух самокритичности, стремление осознать и исправить недостатки, — это и называется воспитанием коммуниста…
Слушая Марцишевского, наверное, не один Павлов подумал, что молодой политработник достаточно гибок, умеет принять во внимание мнение других, если оно и расходится с собственным. «Ну что ж, — рассуждал Павлов, — под влиянием Терехова он со временем может стать настоящим воспитателем, знаний ему не занимать. Только бы он не упивался своим начальничеством…»
После заседания парткомиссии Павлов с Ветровым в ожидании машины — Владислава отпустили ужинать — сидели в пустом конференц-зале. Здесь гулял сквознячок, было прохладно, возбужденность спадала, появлялись более спокойные, более взвешенные мысли.
— Как говорят в народе, — задумчиво изрек Ветров, — что ни делается, то к лучшему. И все же разбирательство выглядело каким-то натянутым…
— Валентин Петрович, переживем! — Павлов успокаивал своего зама, хотя совсем недавно то же самое приходилось делать тому. — Главное, мы сами к себе подошли строго, Марцишевский правильно увидел в этом корень. Ну, а обижаться, — Павлов кивнул на стол и аккуратно расставленные стулья, где только что сидела комиссия, — видно, не следует.
— Так-то оно так, — Ветров глубоко вздохнул. — Но как понимать жилинские обвинения?
— Пусть они и останутся на его совести! — Павлов сдвинул брови. — По крайней мере, многие увидели его лицо. А это тоже чего-нибудь стоит!
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Сопки густо расцвечены золотом и багрянцем непролазных зарослей шиповника и рябины, между ними осторожно вкрапливается сизая жимолость, в сумеречных низинах, где протоптаны стежки, узкими островками темнеет гибкий ивняк. Ласково пригревает нежаркое солнце, легкое дуновение ветерка изредка доносит терпкий запах присохшей полыни и поздних, увядающих цветов.
Удивительная, прозрачная тишина! Только тихо-тихо перекатывается галька, потревоженная ленивой волной, да едва слышится песня со стоящего на рейде корабля. Песня кому-то на корабле, видно, очень нравится, запись ее прокручивают снова и снова, мелодия разливается над бухтой, над прибрежными сопками, несется к заливу, к далеким, подернутым лиловой дымкой горам…
Торжественно и немного грустно. А отчего грустно — Павлов не может понять. То ли песня растревожила, то ли горечь доживающих свой короткий век пахучих трав… Но как ни грустно, а на душе все равно светло. Как светел этот осенний день, когда всего сильней осознаешь скоротечность бытия, когда невольно вспоминаешь весну, сулящую людям бесконечное цветение, тепло и радость, но…
Не так уж часто выпадали морякам минуты такого непредвиденного отдыха, как в этот первый, самый первый осенний день. Хотелось молча слушать, а губы сами собой подпевали:
Сладка ягода лишь весною,
Горька ягода — круглый год…
— Благодать, — ежась на ветерке, тихо сказал Ветров. — Только ведь не успеешь оглянуться — и опять белым-бело…
— Все верно, — задумчиво произнес Павлов. — Коли хорошего слишком много, так и оно перестает быть хорошим.
В самом деле, какое сегодня чертовски хорошее утро! Так казалось и Малышеву. Один Отар его не замечает. Ничего не замечает. Его взгляд прикован к городку, вернее, к Средней улице, к двухэтажному домику, в котором живет Наташа.
Вчера Отар, как всегда, пришел в библиотеку и с недоумением обнаружил на Наташином месте пожилую женщину. Он так расстроился, так испугался — вдруг с Наташей что случилось, вдруг уехала! — что перепутал русский язык с грузинским. Женщина оторопела, уставилась на странного посетителя и, разобрав только одно слово «Наташа», в свою очередь испугалась.
— Что с ней? Ох, батюшки! — схватилась она за сердце.
— Это я вас спрашиваю, что с ней? — перешел на русский Отар.
— Тьфу, окаянный! Напужал!
Только теперь Кубидзе признал в женщине с мелкими кудряшками, в нарядной кремовой кофточке библиотечную уборщицу тетю Клаву; он привык видеть ее в черной спецовке, в косынке, надвинутой на самые глаза, а тут вдруг кудряшки, кремовая кофточка…
— Тетя Клава, ради бога, где Наташа?
— Чего расшумелся? Ну дома она, ну ангиной захворала.
Как ни странно, именно ангина, самая банальная ангина придала Отару решимости, мужества, превратила его из робкого воздыхателя в бесстрашного рыцаря. Отбросив все сомнения, захватив материнское волшебное снадобье, он помчался на Среднюю улицу к Наташе — одинокой, больной, может быть, умирающей, — во всяком случае, остро нуждающейся в его, Отара, неотложной помощи.