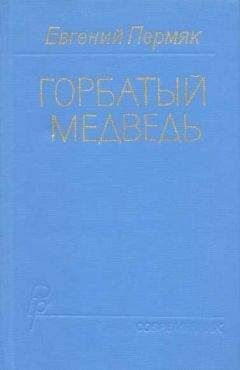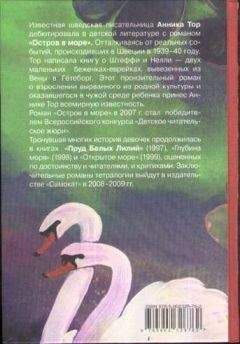Евгений Пермяк - Горбатый медведь. Книга 2
— Здравствуй, Сухариков! Ты, кажется, без карабина, и мне не надо бояться за… За свою теплую одежду.
Это говорил не Маврик, а кто-то другой, уперевший руки в боки, насмешливо уставившись на несчастного.
— Бог наказал меня за тебя и за все, — ответил еле слышно Сухариков.
— Поздно до него дошли молитвы обездоленных такими, как ты… Ну, да ладно. Лежачих не бьют. Не бойся! Я и пальцем не трону тебя. Коли выжил — живи.
А Сухариков, по глупости ли, по трусости ли, а может, притворяясь, трижды перекрестился синей коченеющей рукой и забормотал:
— Да спасет тебя Христос, пресвятая богородица… Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его, — вспомнил гимназическую молитву, которую нужно было прошептать трижды перед экзаменом или вызовом к доске.
Знакомые слова молитвы перекинули какой-то мостик от Сухарикова к Маврику, и чувство, похожее на жестокость, чуточку потеснилось и позволило принять участие в разговоре старожилке Мавриковой души — жалости.
— А полк-то твой где?
— Давно уже его нет… Одних убили, другие сдались.
— Так куда же ты?
— Сам не знаю.
— Так и замерзнуть можно.
— Я уж почти…
— Вот что, Сухариков… Я, пожалуй, скажу тебе, где большой выбор бесплатной зимней одежды. Иди туда, — Маврикий указал за линию железной дороги. — Там достаточно ее. Любых размеров. И убивать никого не надо. Они уже…
Эти последние слова сказала не жалость, а то новое недоброе чувство, которое уживалось со всеми остальными. И не только уживалось, но, как теперь казалось Маврикию, было необходимо ему, чтобы облегчить страдания, разлуку и неслыханное одиночество.
— А ты кто теперь, Маврик? — спросил робко Сухариков.
— Я кто? Я в штабе армии, — ответил Толлин, прикладывая руку в добротной варежке к виску, простился по-военному: — Имею честь.
Сухариков постоял в раздумье, постучал ботинком о ботинок, затем, убедившись, что никто не смотрит на него, воровато побежал за линию железной дороги. Ему очень хотелось остаться живым. Очень. И ему, столько повидавшему, теперь ничего не стоило раздеть мертвого, которому не нужна одежда, а для него теперь, для живого Сухарикова, одежда — это все.
Прикинув рост, ширину плечей, Сухариков принялся раздевать не узнанного им мильвенского палача Шитикова-Саламандру. И уж конечно Сухариков не мог узнать другого мертвеца, Павла Ивановича Саженцева, так счастливо ускользавшего из когтей смерти и нашедшего здесь бесславную гибель. Как-никак, а все же агент и следователь жандармского управления, подававший большие надежды, были связаны до самой смерти давними узами «рыцарей темноты».
Там же в стороне, на большом пепелище костра, находились останки Сидора Петровича Непрелова и набор металлических формочек для расфасовки сливочного масла с изображением тучной коровы и фамилией владельцев фермы.
Лишившись возможности пробираться дальше, Непрелов вместе с другими беженцами и дезертирами пошел греться к костру. В пламени, как всегда, появился Михаил Иванович Шадрин. Он манил к себе Сидора Петровича, протягивая к нему красные, огненные руки. Непрелов был уже не в себе. Еще в Омске после расставания с братом помутился его рассудок. И он, к удивлению греющихся у огромного костра, в котором горели старые шпалы, кинулся в пламя, угрожая кому-то обнаженным кинжалом.
С трудом раздевая Саламандру, Сухариков не замечал следов наведывавшихся сюда ночью волков, которые и теперь сидели, облизываясь по-собачьи, в березовом перелеске, дожидаясь, когда кончится короткий голодный зимний день и начнется долгая лакомая ночь.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ПЕРВАЯ ГЛАВА
От города Татарска до Славгорода пролегает новая железная дорога, которая потом пойдет дальше, а теперь пока это ветка-тупик, и на этой ветке не встретишь и по злому произволу судьбы знакомого мильвенца. А места здесь хлебные, мясные, рыбные, масляные — богатые места. Только жаль, что нет в этих местах ни сосны, ни елочки. Равнина, равнина, бескрайняя снежная равнина, оживляемая кое-где березовыми перелесками, не больше старой непреловской пасеки в Омутихе.
Селения редки. Деревянных домов очень мало, все больше дерновые из пласта и саманные из больших глиносоломенных сырцовых кирпичей, а церквей и совсем не видно. Зато ветряных мельниц тут как нигде. Высокие, обшитые тесом, похожие на башни, и маленькие, как избушки яги-ягишны на курьих ножках. По пять, десять мельниц возле маленькой деревеньки. И не стоят, а машут крыльями. Значит, есть что молоть. Да и вообще видно, что хлеб здесь едят не оглядываясь.
Пожилой мужик в хорошем черном тулупе, ехавший в одной теплушке с Маврикием, спросил:
— Хошь?
— Хочу, — ответил Маврик и взял из рук незнакомого чернобородого крестьянина половину калача, отогретого на вагонной чугунной печке-«буржуйке».
Серовато-белый пшеничный калач был пышен, ароматен и свеж. Маврикий потом вдолге узнает секрет свежести этих калачей. Их можно сравнить только с теплыми французскими булками, которые когда-то продавались в гимназии. Маврикий с таким восторженным наслаждением ел калач маленькими кусочками, боясь, что съест все и исчезнет очарование. Заметив это, чернобородый мужик сказал:
— Да ты не робей, паря, за обе щеки ешь. Гляди, сколь их. Мы еще пару расталим на тепле. Не везти же мне их домой.
К калачу был придан кусок вареной баранины, которую тоже нужно было прежде «расталить на тепле», а потом есть. И тоже за обе щеки. Кусок был такой, что в Мильве им насытилась бы немалая семья.
Разговорившись с мужиком, который велел себя звать Кузьмой, Маврикий выяснил, что «в этих местах всего хватает, окромя счетных писарей».
Маврикий понял, о каких «счетных писарях» идет речь, и осторожно узнал, где именно нужда в таких писарях. Кузьма ответил:
— А хоть бы и у нас. — И тут же спросил: — А вы к этому не касательны?
— Почему же не касателен. Касателен. Зачем-то девять лет учили.
— Тогда, может, сторгуемся. Мешок пшеницы в месяц и два куля крупной рыбы, а если чебаком — то можно и четыре.
— А кто вы такой? — так же прямо спросил Маврик.
— А мы артельный башлык, то есть голова невода. Жить можно у меня. А не поглянется — в каком другом доме. Но при мне-то бы лучше. Спать — где пожелаешь. В рот глядеть не будем. Стирка, катка, глажка готовые. Старшая без дела сидит, и у младшей руки не отвалятся. Думай, парень. А ежели не по ндраву будет у нас, так разве кто тебя неволит. Мешок за плечи — и путь тебе дорога на все четыре стороны.
— Вы правы. Уйти я всегда могу… Попробую.
На станции Кузьму ожидала пара маленьких сибирских лошадок, запряженных гусем. У Кузьмы оказалось отчество Севастьянович. Так назвал его приехавший за ним парень с очень красивым лицом.
— Гость, — указал на Маврикия Кузьма Севастьянович. — Может, приживется. Поехали, ваша честь. До нас тут рукой подать, и двадцати верст не будет.
Маленькие лошадки помчали складненькую, уютную кошевку очень быстро. На бегу они стали еще ниже. Чуть ли не как волки. Невольно вспомнился пермский конек Арлекин.
— А дороги ли у вас лошади? — вдруг спросил Маврик.
— Да кто их знает. Мешков по пять, наверно, за таких возьмут. А если кормов мало, то и по четыре укупишь. Ты, видать, хозяйственный господин.
— Нет, я просто так, Кузьма Севастьянович.
— И обходительный, никак. Н-на тулуп. Я уж нагрелся. Мне и в одной шубе жарко.
IIДвадцать верст показались очень короткими. Может быть, потому, что по замерзшему бескрайнему озеру дорога была ровна и пряма.
— Вот и наш Щучий остров. Семь домов, девять бань, три молельни, — опять заговорил Кузьма. — Мы еще при царе кумынией жили, только без товарищев. И теперь кумынией живем. Невесту или случится жениха брать в дом — и то на обчем сходе обчества голосуем. Ей-пра. Вот увидишь, какие мы кумынистые.
Шутил или не шутил он, не разберешь. Но дом Кузьмы Севастьяновича и его семья понравились с первого взгляда. Маврикия не спросили ни о чем. Глава семьи не представил приезжего. Достаточно было того, что его привез хозяин дома. И жена Кузьмы — воплощение здоровья и приветливости, женщина лет под сорок, и дочери принялись раздевать Маврикия, обметать веничком снег с его валенок, приглашать в горницу, к печке-голландке, предлагать «стакашек горяченького чайкю, а ежели будет желательно, то и чево другова покрепше».
— Вот ваше сенаторство-губернаторство, — весело кивнул на дочерей Кузьма Севастьянович, — одна невеста, другая солдатская вдова. Любую сватай.
Дочери в очень длинных юбках, какие носят омутихинские девчонки, но сшитых, как и кофты, из хорошей материи, весело запрыгали.