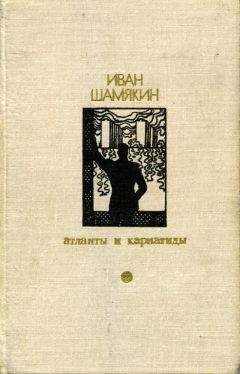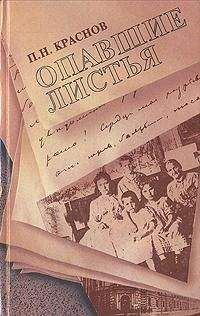Иван Шамякин - Атланты и кариатиды
Языкевич сообразил, зачем это и что нужно подчеркнуть в такой справке, и почувствовал своего рода восхищение своим руководителем: вот это в самом деле комплексное разрешение вопроса!
Выйдя в приемную, он достал платок и вытер лоб, точно в кабинете было жарко. Сказал Галине Владимировне, смотревшей на него вопросительно:
— Неисповедимы пути господни.
Она не поняла. А ей очень хотелось знать, как Герасим Петрович реагировал на письмо жены Карнача. Но в приемной были посторонние люди, и она вышла вслед за Языкевичем в коридор. Окликнула:
— Арсений Николаевич.
Он галантно повернулся, поправил галстук.
— Дорогая Галина Владимировна. Всегда к вашим услугам…
Ему нравилась эта красивая молодая вдова, чрезвычайно услужливая, хороший товарищ: что ни попросишь, всегда сделает, даже если это и не входит в ее прямые обязанности.
— Он поручил это вам?
— Что?
— Разобраться с жалобой жены главного архитектора?
Арсений пожал плечами.
— Ни о какой жалобе он ничего не говорил.
— Не говорил? — Она удивилась.
Языкевич подошел ближе, вгляделся в ее лицо, увидел, что она взволнована, и в нем разгорелось любопытство. Гляди, правду говорят, в тихом омуте черти водятся. Такая недотрога…
— А почему вас так встревожила эта жалоба? Уж не закрутили ли вы роман с Карначом?
— Ну что вы! — Она испуганно оглянулась: не слышал ли кто?
Языкевич засмеялся.
— Ах, женщины! Как легко вы себя выдаете! Что ж, Карнач — мужчина, достойный женского внимания. Староват, правда. Я ваш ровесник, а вы не замечаете моих чувств, Галина Владимировна. Потерпев поражение, посыпаю голову пеплом. И славлю победителя!
Он галантно склонил перед ней голову с густыми, красиво причесанными, цвета спелой соломы волосами; горкомовские сотрудники посмеивались, что Языкевич каждое утро, как модница, делает прическу в парикмахерской.
Галине Владимировне давно не нравились ухаживания Языкевича, она даже боялась, как бы он своим поведением и пустой болтовней не бросил тени на ее доброе имя. Теперь она испугалась, что выдала себя перед человеком, который не очень умеет держать язык за зубами. Надо было обернуть все в шутку. Но ничего не могла придумать. Не кинуться же просто так назад в приемную, как смущенная школьница. Между тем Языкевич подумал, что откровенность ему не повредит, тем более что никакого секрета нет. Через Галину Владимировну больше проходит секретов. И он ответил тихо и серьезно:
— Нет, заявления он не показывал. Но поручил проверить архитектурное управление.
— Спасибо, Арсений Николаевич.
— Не за что, Галина Владимировна.
Она вернулась в приемную. А Языкевич, может быть, впервые забыл о своей прическе и взъерошил ее пятерней. Но тут же дал себе джентльменский наказ: никому ни слова о том, о чем он догадался. К тем, кого уважал, он умел относиться серьезно.
А для Галины Владимировны начались душевные муки. Она так часто в последнее время думала о Максиме Евтихиевиче, что чувствовала: если не сообщит ему о нависшей над ним угрозе, будет переживать это как измену. Не измену любимому. Боже мой, какой там он любимый! Об этом она и думать боялась. Измену хорошему человеку, другу. Смелости и в мыслях у нее хватало лишь на то, чтоб надеяться на его дружбу. При всей своей общительности и доброте, самых лучших отношениях со многими товарищами по работе, за стенами своего учреждения она жила уединенно, нелюдимо. Соседки, жены летчиков, изредка наведывались, помогали присмотреть за детьми, но душевного контакта, такого, как при жизни мужа, с ними не получалось. И вот явился человек, и будто вспыхнул маяк в ее одинокой жизни. Она шла на этот маяк с надеждой и страхом. Но если б она узнала, что из-за нее произошел разлад в другой семье, она пережила бы это как еще один страшный удар судьбы, и у нее хватило бы силы заставить себя даже не думать об этом человеке. Когда Таня, дочка, маленькая глупышка, насторожилась, — как она испугалась! А какой страх пережила сегодня, когда из общего отдела ей передали письмо его жены. Если б в письме было хоть одно слово о ней, она, верно, тут же без объяснений оставила работу и никогда больше не появилась бы здесь. Нет, ничего о ней не могло быть. Нет у нее никаких дурных намерений. Только одно — помочь ему, предупредить…
Но это вроде бы выдать служебную тайну и… изменить другому человеку — Герасиму Петровичу, которого она глубоко уважает. Он взял ее на работу в очень трудное для нее время. Работать с ним хорошо, несмотря на его требовательность. Некоторых работников он, случается, отчитывает, без крика, без шума, но так, что вылетают они из кабинета, как из хорошей парилки. С ней Герасим Петрович всегда добр, приветлив, внимателен, заботлив. Заболел Толик, потребовал, чтоб она уехала домой ухаживать за малышом. Ей Герасим Петрович никогда не приказывает — просит: «Галина Владимировна, пожалуйста… Когда вы можете это сделать? Сегодня же? Можно и завтра. Спасибо».
И она старается ни в чем не подвести его. У нее всегда хватает такта без предупреждения понять, о чем можно говорить, о чем нельзя, что является тайной этой высокой организации и ее руководителя.
Галине Владимировне сразу не понравилось, что письмо жены Карнача вскрыли в общем отделе и довольно болтливая работница экспедиции прочитала его. Так что напрасно Герасим Петрович держит письмо в секрете… Секрета уже нет. И она не выдаст никакой тайны, если позвонит.
Позвонить или не позвонить?.. Рассказать или не рассказать?
Набрала номер его телефона, но на последней цифре спохватилась. Разве можно говорить отсюда, из приемной?
Вышла в коридор, открыла кабинет болеющего сейчас работника (все ключи лежали в приемной), заперлась там и с решимостью пловца, который кидается в холодную воду, чтоб спасти утопающего, набрала номер телефона.
Раздался его недовольный, раздраженный голос:
— Слушаю.
От волнения выдохнула нелепое «алло».
— Кто говорит?
— Я… — как девочка, пискнула Галина Владимировна.
— Кто я? — Он явно сердился, и волнение ее перешло в страх.
— Галина Владимировна, — назвалась она шепотом, словно стесняясь своего имени.
— Кто? Ах, вы?! Минуточку…
Как видно, он плотно зажал трубку рукой, но все-таки прорывался его возбужденный голос, он кому-то выговаривал.
Забывшись, снял с микрофона руку. Послышался другой голос:
— Ты ответишь за свои слова.
— Отвечу, Анох, отвечу. Я никогда не уклонялся от ответственности.
Стукнула дверь. Тогда он сказал приветливо и весело:
— Мне приятно слышать ваш голос, Галина Владимировна. Как вам живется? Хочу вас видеть. Но где? Стал придерживаться мудрого правила: не ходи туда, куда тебя не зовут, где тебя не ждут…
— Раньше вы часто приходили к нам.
— Ах, зачем вспоминать, что было! Не те времена, и мы уже не те, — он говорил шутливо, довольный, что она позвонила. Галина Владимировна почувствовала это, и тем труднее было сказать то, ради чего она отважилась на звонок. Сказать — сразу погасить ту маленькую радость, которую давал этот легкий, ни о чем разговор.
Она вздохнула.
— Максим Евтихиевич… Ваша жена написала заявление…
Он умолк на полуслове, ничего не ответил. Только кашлянул, как бы подавая знак, что трубки не положил.
— Вас будет проверять комиссия.
Тогда он воскликнул, как показалось, весело:
— Хо! Дорогая Галина Владимировна! Меня проверяли сто раз. Пускай проверяют сто первый. Веселей будет работать.
Не понравилось, как он обратился: «Дорогая Галина Владимировна», — это как-то сразу отдаляло и отчуждало их. Поняла, что благодарности за это сообщение он не испытывает, и потому тихо, не попрощавшись, положила трубку.
Раньше двухнедельные Дашины молчанки казались минами замедленного действия. Как это мешало работе! Ее заявление в горком — новая мина. Видишь, а как обезвредить, не знаешь.
Зная Дашу и ее сестру, Максим не сомневался, что финал будет именно таким. Он думал об этом еще тогда, когда отвел свою кандидатуру в горком. Чего еще он мог ждать от жены? Благородства? Интеллигентности? Куда там! Она жаждет одного — отомстить любыми средствами. А средств у нее немного, фантазии не хватает. Да, он ждал этого… Однако, когда Галина Владимировна сказала о заявлении, ему будто жабу кинули за пазуху. И тут же предупреждение о проверке. Он сразу понял, какой заход делает Игнатович. Страхуется. Поэтому в самом деле стало весело, злорадно-весело. Давай, Герасим Петрович, проверяй! Я покажу тебе все огрехи, допущенные под твоим руководством!
Услышав короткие гудки, Максим выругал себя. Обо всех подумал в этот миг. О себе. О Даше. Об Игнатовиче. Только о женщине, которая, волнуясь (по голосу слышно было), с искренней добротой и сочувствием предупредила его, о ней забыл.