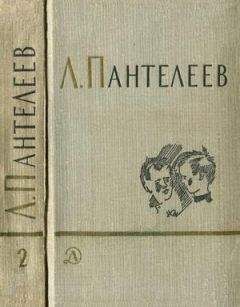Леонид Пантелеев - Республика Шкид
– Володька… Пой! Пой, растыка! Талант сжигаешь… Хо-хо-аааа!..
Потом обнимал Цыгана, целовал, шептал:
– Морда цыганская, дружище!.. У меня отец и мать сволочи, один ты друг. А я съехал, скатился к чертям…
Пили, пели, плясали…
Потом всей компанией, босой, рваной и пьяной, пошли гулять… По улице шли – смеялись, кричали, ругались, а Бессовестный шел наклонив голову и по просьбе Гужбана пел:
– Не ходи, милый, с городу пьяный,
Тебя зачалит любой легавый.
– Милая Дуся, я не боюся,
Если зачалят, я откуплюся.
У Калинкина моста стоял автомобиль, дрянненький фордовский автомобиль, тонконогий, похожий на барского мальчика, короткоштанного, голоколенного.
– Мотор! – закричал Гужбан. – Мотор! В жисть не ездил на моторе.
– Сколько до Невского? – обратился он к шоферу.
Шофер – латыш или немец – поглядел с удивлением и ужасом на босых, лохматых парней и крикнул:
– Пошел потальше, хуликан!..
– Сколько? – рассвирепев, прокричал Гужбан, выхватывая из кармана пачку лимонов.
Шофер торопливо осмотрелся по сторонам, открыл дверцу автомобиля.
– Сатись… Пятьдесят лимоноф…
– Лезь, шпана! – закричал не задумываясь Гужбан.
Полезли босые в кожаную коляску автомобиля фордовского. Уселись. Ехали недолго, по Фонтанке. На Невском шофер дверцу отворил:
– Фылезай.
Вылезли, бродили по Невскому…
Ели мороженое с безвкусными вафлями (на вафлях надписи – «Коля», «Валя», «Дуня»), ели яблоки, курили «Трехсотый «Зефир» и ругались с прохожими.
Потом пошли оравой в кино. Фильм страшный – «Таинственная рука, или Кровавое кольцо» с Пирль Уайт в главной роли.
Смотрели, лузгали семечки, сосали ириски и отрыгали выпитым за день самогоном и пивом.
Домой в школу возвращались поздно, за полночь… Заспанный Мефтахудын открывал ворота, ругался:
– Сволочи, секим башка… Дождетесь Виктыр Николаича.
Ночной воспитатель записал в «Летопись»:
«Старолинский, Офенбах, Козлов, Бессовестин, Пантелеев, Черных и Курочкин поздно возвратились с прогулки в школу, а воспитанники Долгорукий и Громоносцев не явились совсем».
Гужбан и Цыган в школе не ночевали, они ночевали на Лиговке…
* * *
Янкель и Пантелеев стояли опустив головы, не смотрели в глаза. Цекисты, сгрудившись у стола, дышали ровно и впивались взорами в обвиняемых…
Рассуждали:
– Сами признались. Снисхождение требуется.
– Факт. Порицание вынесем, без огласки.
И в сторону двух:
– Смотрите!..
Янкель и Ленька взглянули в глаза Японцу.
– Япошка!.. Честное слово… Сволочи мы!..
* * *
У Гужбана деньги вышли скоро… Казалось только, что трудно истратить восемьсот миллионов, а поглядишь, в день прокутил половину, там еще – и ша! – садись на колун. А сидеть на колуне – с махрой, с фунтяшником хлеба – после шоколада, кино, ветчины вестфальской и автомобиля – дело нелегкое.
Гужбан задумался о новом. Новое скоро придумал и осуществил.
Темной ночью эта же компания взломала склад ПЕПО, что помещался на шкидском же дворе. Сломали филенки дверные, пролезли, вынесли ящик папирос «Осман», филенки забили.
Снова кутили.
На полу, в коридорах, классах и спальнях школы – всюду валялись окурки с золотым ободком, «Осман» курила вся школа, и на колуне никто не сидел: щедрым себя показал Гужбан с миллиарда.
Случилось еще – ушли в отпуск лучшие халдеи – Косталмед и Алникпоп. Эланлюм растерялась совсем, уже не могла вести управление, сдерживать дисциплиной Содом и Гоморру…
Пошло безудержное воровство. Крали полотенца, одеяла, ботинки.
Юнком пытался бороться, но при первой же попытке подручные Гужбана избили Финкельштейна и пригрозили Пантелееву и Янкелю рассказать всей Шкиде про кофе и Пирль Уайт.
Как-то пришел к Пантелееву Голый барин. Дружен был он с Пантелеевым, любил его и говорил по-человечески.
– Боюсь я, Ленька, – сказал он. – Наши налет на «Скороход» готовят, надо сторожа убить… Ей-богу… Мне убивать…
Бледнел гимназистик Голенький, рассказывая.
– Мне. Да я… После придет в столовую Викниксор да скажет: «Кто убил?» – так я бы не вытерпел, истерика бы со мной случилась, закричал бы…
Голый плакал грязными слезами, морщил лицо, как котенок…
– Ладно, – утешал Пантелеев, – не пропал ты еще… Вылезешь…
А раз сказал:
– Записывайся в Юнком.
Удивился Голый, не поверил.
– А разве примут?
– Попробуем.
Свел Ленька Барина на юнкомское собрание, сказал:
– Вот, Старолинский хочет записаться в Юнком. Правда, он набузил тут, но раскаивается, и, кроме того, у нас не комсомол, организация своя, дефективная, и требования свои.
Приняли в кандидаты. Стаж кандидатский назначили приличный и обязали порвать с Гужбаном.
Но Гужбан не остыл. Сделав дело, он принимался за другое. Покончив с ПЕПО, вывез стекла из аптекарского магазина, срезал в школьных уборных фановые свинцовые трубы. Однажды ночью пропали в Шкиде все лампочки электрические – осрамовские, светлановские и дивизорные – длинные, как снаряды трехдюймового орудия.
Зараза распространялась по всей Шкиде. Рынок Покровский, уличные торговки беспатентные трепетали от дерзких мальчишеских налетов.
Это в те дни пела обводненская шпана песню:
С Достоевского ухрял
И по лавочкам шманал…
На Английском у Покровки
Стоят бабы, две торговки,
И ругают напропад
Достоевских всех ребят,
С Достоевской подлеца –
Ламца-дрица а-ца-ца…
Это в те дни школа, сделав, казалось, громадный путь, отступила назад…
Первый выпуск
В ветреную ночь. – Без плацкарты и сна. – В Питере. – Эланлюм докладывает. – У прикрытого абажура. – Остракизм. – Нерадостный выпуск. – Снова колеса тарахтят.
Волком выла за окном ветреная ночь, тарахтели на скрепах колеса, слабо над дверью мигала свеча в фонаре. Рядом в соседнем купе – за стеной лишь – кто-то без умолку пел:
Выла вьюга, выла, выла,
Не было огня-а-а,
Когда мать роди-ила
Бедново миня…
Пел без умолку, долго и нудно; и поздно, лишь когда в Твери стояли – паровоз пить ушел, – смолк: заснул, должно быть… За окном завывала на все голоса ветреная ночь, а в купе храпели – студент с завернутыми в обмотки ногами, дама в потрепанном трауре и уфимский татарин с женой. Храпели все, а татарин вдобавок присвистывал носом и во сне вздыхал.
Викниксору спать не хотелось. Днем он немного поспал, а сейчас сидел не двигаясь в углу, в полумраке, и, прикрывшись от фонарных лучей, думал…
Мысли ползли неровные, бессвязные, тянулись туда, в ту сторону, куда вертелись колеса вагонов, – к Питеру, к Шкиде.
За месяц съезда еще больше полюбил Викниксор Шкиду, понял, что Шкида – его дитя, за которым он хочет и любит ходить. Что-то там? Хорошо ли все, не случилось ли чего? Знает Викниксор, что все может случиться: Шкида – ребенок-урод, положиться на него трудно. А сейчас и момент опасный выдался: много «необделанных», новых дефективников пришло перед самым Викниксоровым отъездом…
– Что-то там?..
Думал Викниксор… А потом задремал. Снились – Минин на Красной площади, «Летопись», Эланлюм, ребята в школьной столовой за чаем, вывеска на Мясницкой – «Главчай», докладчик бритый, с усами вниз, на съезде соцвоса и Шкида опять – Японец с гербом-подсолнухом в руках, Юнком…
Потом смешалось все. Вывеска на Мясницкой попала в «Летопись», «Летописью» размахивал бритый докладчик соцвоса, в школьную столовую вошел каменный Минин… Заснул Викниксор.
Разбудил студент:
– Вставайте, товарищ… Питер.
Вставать не хотелось. Зевая, спустил ноги, поднял свалившееся на пол пальто…
Когда вышел на площадь, – радость забилась в груди. Теплым, родным показалось все – питерские извозчики, газетчики, носильщики. И даже Александр III с «венцом посмертного бесславья» показался красавцем.
Над Петроградом встало утро.
Было не жарко. Викниксор хотел сесть в трамвай, но трамвай долго не шел, и он решил идти пешком. Снял пальто и пошел по Лиговке, по Обводному к школе. Пуще прежнего беспокоил вопрос: что-то там?
На Обводном, у электрической станции, катали возили по сходням на баржу тачки с углем. Викниксор постоял, посмотрел, как черный уголь, падая в железное брюхо баржи, сверкал хрустальными осколками, посмотрел на воду, блестевшую накипью нефти, потом вспомнил – что-то там? – и зашагал быстрее.
Солнце упрямо лезло вверх, было уже жарко, золотая сковородка стояла теперь у Ново-Девичьего монастыря.
* * *
Эланлюм сидела, Викниксор стоял, хмурился, слушал. В глазах его уже не было улыбки.