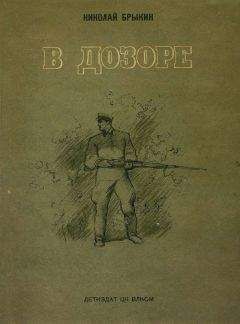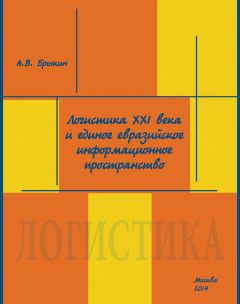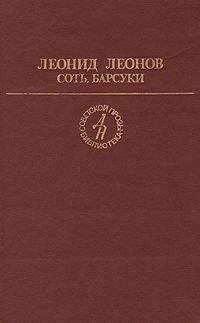Леонид Леонов - Барсуки
– В писании сказано: если рука заболит, руку и отруби... – тихо сказал откуда-то из угла Юда, награжденный тотчас же общим смехом.
И последний раз подошел Мишка к Семену:
– Может, прямо разменять его, а? О чем допрашивать, дело ясное! – но уже видел: лошадь понесла, разбивая таратайку на бездорожьи. Губы Семена раздвинулись, обнажая влажный оскал зубов, зрачки расплылись. Мишка стоял в ожиданьи ответа, хмель его, казалось, прошел весь.
– Где его нашли?.. – резко и звучно крикнул Семен, оставаясь в тени.
– А вот Подпрятов нашел, – пальнул Петька Ад.
– Подпрятов! – вызвал Семен.
– Он до ветру побежал... – сообщил Юда, и все засмеялись. – Иди, тебя начальник кличет? – потопал Юда на входящего Подпрятова, и опять смех.
– Ты где его нашел? – начал с нарочным безразличием Семен.
– Брыкина-т? – скосил глаза на сидевшего на полу с закрытыми глазами Подпрятов Андрей. – Вышел я до ветру...
– Да с чего ж это ты все до ветру ходишь? Больной, что ли? – вставил унизительно для себя Семен, и, точно по сговору, барсуки ответили молчаньем на Семенову шутку.
– ...вышел до ветру, гляжу – чернота в снегу, за кустком, – продолжал Подпрятов, недовольный, что его прервали. – Подошел, человек. Я его тут пихнул ногой маленько, он тут и отвалился. Лежит – и все. Я взглянул, а это он и есть. Конечно, вонь тут от него...
– Вот, ребята... – начал Семен, держа бороду рукой.
– Земляки! – быстро прервал его Мишка Жибанда. – Может, нам его и без суда кончать?.. Кому суд, а кого и прямо на сук. Полевым судом его, а?
– Зачем! Обсудить надо, – сказал, сопя, Ефим Супонев. – Не горим ведь!
– Вот я и хочу сказать... – овладел вниманьем барсуков Семен. – Брыкин предатель, за то его и судим. А я предложил бы ему снисхожденье дать, раз он не бежал... – говоря, Семен старался поймать блуждавший теперь взгляд самого Егора.
– Ну, это уж совет зеленых атаманов порешит, – неуловимо дразня Семена, сказал Юда.
– Конешно, чего тама? – сказал бородач в углу.
– Миром! – сказал Прохор Стафеев.
– Не спеша, ребятки, надоть... не спеша! – егозливо выступил приятель бородача и зачем-то поплевал на руки.
– Допрос, значит, можно начинать, товарищи? – спросил Мишка.
– Да уж путлять нечего. Не ужинали еще, – сказал угрюмо Гарасим, и как только он сказал, все хором вздохнули.
– Начинай, – сказал Семен, а все сразу поняли, что и без Семенова позволенья все равно начался бы допрос.
Жибанда нагнулся к Брыкину и шевельнул его за плечо.
– Ну, встань, – сказал он спокойно. – Садись вот на обрубок, – и ждал, все еще согнувшись над Брыкиным.
Тот пошевелил головой и застыл в прежнем оцепененьи. Тогда Жибанда вскинул бровью, поднял Брыкина с пола и посадил на круглое комлевое полено, стоявшее посреди зимницы. Брыкин качнулся и стал падать с него, как неживой.
– Попридержи, – грубо сказал Жибанда ближайшему.
Ближайшим оказался Гарасим-шорник. Он послушно вытянул руку и взяв Брыкина за волосы, держал так, вертя Брыкинское лицо то к свету, то к тому, кто задавал вопрос. А лицо Егорово было безжизненно, только шевеленье губ его, растрескавшихся и изломанных, показывало, что еще тлеет в нем чадный уголек сознанья.
– Не держи за волосья-те! Под руки подержи... – заметил брюзгливо Стафеев.
– А я ему кресло, под руки-то держать? – огрызнулся Гарасим и еще сильнее поддернул Егора за волосы. Темная сила, которой светился Гарасим в ту минуту, была столь велика, что никто не посмел остановить его, а Брыкинское лицо продолжало висеть в воздухе, как белая страница, на которой уже написан был приговор барсуков.
– Ну, что ж, начнем теперь, – вздохнул Жибанда и помолчал, почесывая ногтем выбритый подбородок. – Ты, Брыкин, слышишь меня? – он озабоченно глядел на шевеленье Брыкинских губ. Опять помолчав, он вдруг приблизил свое лицо к Брыкинскому и почти прокричал в упор: – комиссара Половинкина кто отвязал... ну?
Лицо Брыкина постепенно оживлялось, точно спрыснули его живой водой; тень румянца затемнила место над правой бровью и левое, странно заострившееся, ухо. – «К свету, к свету его поверни...» заворчали барсуки, а Мишка внимательно наблюдал оживленье Брыкина по движеньям его губ.
– Марфушка босонога! – неожиданно громко прокричал Егор, выпрямился, открыл глаза, но снова закрыл их, ослепленный печным огнем. Жизнь, торопливая и суетливая, радостными струйками забегала в несогласных еще между собою мускулах его лица. Брыкин крикнул, и барсуки засмеялись неожиданности. – Марфушка! – еще раз крикнул Брыкин и вырвал голову из Гарасимовой руки. – Я ее в кустах подслушивал... в клоки хотел стерву изорвать! Она ему, товарищи: женись, говорит, на мне, развяжу тогда... Глаза Брыкинские блестели, он захлебывался своими, стремительными, словами и радовался тем, которые еще предстояло сказать: каждое слово удлиняло срок его существования среди живых. Он как бы вырывал каждое слово от себя самого, ценою себя самого покупая клочок жизни. Щедрость его была беспредельна... – Он и говорит ей: развяжи, тогда женюсь! А она: напиты, говорит, запитотьку... – Брыкин, подражая Марфушке, даже и лицом передал выражение Марфушкина лица. – А он говорит: так ведь у меня руки-то связаны, как же я напишу?.. ты развяжи сперва, я потом напишу. А она: нет, тперва напиты! Уж я, батюшки мои, хохотал, вот хохотал... штаны стали мокры! – и, весь передернувшись как в судороге, Брыкин с видом какого-то безумного вдохновенья смотрел на барсуков, но никто не глядел на него.
– Ладно... – оборвал его Жибанда тоном, зачеркивающим всю искренность Егорова показанья. И опять качнулся Брыкин на своем чурбаке, и опять шепнул Жибанда Гарасиму: попридержи, чтоб не съехал. – Ну, а потом Марфушка сказала ему: ты голый... и убежала. Так? – спросил Жибанда, щурясь и крутя усы.
– Так... – пошевелились Брыкинские губы.
– А потом ты вышел и отвязал комиссара, – жестко вычитывал Жибанда. Как же ты его отпустил? ведь он же жену твою взял!
– Полжизни у мене утащил! – жалобно прокричал Брыкин.
– И как же, без уговору ты его отпускал? – осудительно качнул головой Жибанда, дотрогиваясь пальцем до Брыкинского лба. Брыкинский взор отразил испуг, сжатые губы – нехотение говорить.
В зимницу входили новые, становились в круг же. Тишина не нарушалась, но когда Настя пробиралась сквозь плотное кольцо барсуков, побежали шопотки, а Тешка, Юдин прихвостень, вздохнул громко и насмешливо, толкая Евграфа Подпрятова в бок:
– Эх, леденистенькая... куснуть ба!
Подпрятов не ответил.
– Значит, товарищи, выяснено... – голосом покрыл всех Мишка: – ... Брыкин отпустил комиссара по уговору. Что-де, вот, отпускаю я тебя, а когда барсуков крошить станут, так ты меня выпустишь. Как, вина достаточная, товарищи?..
– Достаточная... хватит!
– Чего его мучить зря?..
– Жрать хотца. – Такие раздались возгласы отовсюду.
– Погодите, погодите... зеленые атаманы! – с неуловимой дерзостью остановил их Юда и протискался вперед. Общее внимание приковалось теперь к нему, а он глядел на Мишку, взглядом требуя согласия на что-то. Мишка, весь багровый от негодования, чесал себе правую щеку, а левую руку, сжатую в кулак, держал вдоль тела. Юда выжидал, а Брыкин опять стал оседать, точно окончательно сломался тот стержень, на котором держалось его человеческое достоинство. Гарасим переменил руку и опять поддернул Брыкина вверх.
– Скоро, что ль, вся рука затекла, – недовольно сказал он.
– Счас, счас... Я вот жду, – сказал Юда тихо. – Миша! – прибавил он еще тише, – я жду! – И все видели, как Мишка отрицательно покачал головой.
Из печки вывалилась горящая ветка и чадно горела на железном листе, набитом перед печкой.
– О чем это ты, Юда? – спросила Настя, и голос ее дрогнул. Она вызывающе смотрела на Юду, но Юда не ответил и стоял, играя серебряным подвеском пояска и глядя в стену грустными глазами, точно спрашивал совета у стены.
А уже был брошен последний камень осужденья в Брыкина. Все, лежавшее втуне на памяти у барсуков, дружно обнажило свои смыслы, остриями направленные в Егорово имя. Вспомнилось, как пропадал он днями в долгих отлучках, а потом хвастливо угощал папиросками соседей по землянке. Как однажды, зайца приняв за человека, убежал в лес, и разговаривал с зайцем... И сам Жибанда только тут сообразил о проскользнувшем мимо него Брыкинском лице в незабываемую ночь похода на Гусаков. – Сам Егор уже не слышал ни отдельных возгласов барсуков, ни точных и упорных вопросов Юды, которыми тот предварял свой последний удар. Расслабленное сознанье Брыкина окутывалось дремой. Он открыл глаза и увидел тихие, мягко мерцавшие из-под ресниц глаза Юды. Но они жгли его и побуждали к действию.
– Братишки... – задыхаясь и всхлипывая, вскочил с обрубка своего Брыкин с открытым ртом. Он делал руками движенья, точно играл в жмурки, точно не видел уже ничего вокруг себя и ловил наугад. – Братишки... А ведь Петьку-те Грохотова это я убил!! Не он, не он, а я ...я! – и всем телом вытянулся в жест, указующий в молчащего Семена. – Не он... Как я уехал в лес, топор забыл. Я и воротился задворками, меня никто не видал... А лошадь в Бабашихином оставалась. Дома взял топор, побежал рожью назад, к Бабашихину-т... А как бежал рожью-те, тут и увидел во ржи: мужик на Аннушке... Я и махнул тут топором-те... да все рожью, рожью, в лес! Рожь-те присмята была... черная тужурка на ем... со ржи пыль несла... Я-то думал, что Половинкин попал, а не Половинкин!.. на топорище-т и осталась кровь... – он кричал все пронзительней, мечась по зимнице, и барсуки расступались, уступая Брыкину место для последней суетни. – Не он!.. Ограбил ты меня, Семен Савельич!.. Все ты у меня взял, все... отдай, отдай мне! – рыдал Егор, цепляясь и руками и зубами за Семена. Было нехорошо смотреть на него в ту минуту, как и на Семена, отпихивавшего Брыкина и коленами и кулаками.