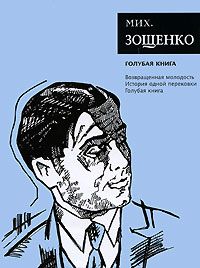Михаил Зощенко - Том 4. Личная жизнь
Происходят взгляды и улыбки. И завязывается первый разговор, из которого выясняется, что молодая особа живет здесь со своей мамой. Ей девятнадцать лет. У нее, как говорится, своя дорога — учеба в школе кройки и шитья.
Да, конечно, она своей судьбой довольна. Но не очень, поскольку все еще впереди, а в настоящий момент ничего особенного.
И вот проходит еще месяц, и наш муж начинает ее усердно посещать. Он заходит к ней в гости. Беседует на разные темы с ней и с ее мамой. И делается там как бы своим человеком.
Он, короче говоря, влюбляется в нее до потери сознания. И, будучи решительным человеком, приходит к мысли о необходимости полной перемены жизни.
И вот — разговор со своей женой, слезы и стенанье. И, наконец, наш муж перебирается этажом выше.
Он поступает до некоторой степени благородно: все оставляет своей семье. И только лишь берет с собой чемодан с бельем и носильными вещами.
Он обещает выплачивать им почти что треть жалованья, но это не уменьшает страдания жены. И там происходят обмороки, рыдания и визг сына. Печальная картина развала и крушения семьи.
Но жребий брошен. Мосты позади сожжены. И наш влюбленный муж, как говорится, вкушает счастье со своей особой.
Но он недолго вкушает счастье. Он — младший командир запаса. Его мобилизуют в Красную Армию и направляют на Карельский перешеек.
И он уезжает, нежно простившись со своей плачущей Ритой. Он пишет ей с фронта короткие письма, в которых описывает суровую боевую жизнь, жестокие бои и адские морозы. Его письма полны решимости и отваги. Это не мямля и не слюнтяй пишет с фронта. Это пишет отважный младший командир запаса, для которого долг выше личного счастья.
Но вот письма приходят все реже и реже и, наконец, совсем прекращаются. И Рита не понимает, что это значит. Уже март, конец войны. А писем нет.
И вот однажды приходит письмецо. И Рита, прочитав его, лишается чувств.
Она падает в обморок. И ее мать опрыскивает ее водой, чтоб она пришла в себя. И, придя в себя, она зачитывает мамаше письмецо, в котором говорится: «Милая Рита, я получил ранение. Я потерял ногу. Я теперь инвалид и калека. Отпиши подробно, согласна ли взять меня или мне лучше находиться на государственном обеспечении».
Целый день мама с дочкой обсуждают положение. И, наконец, ему пишется ответ, полный жалости и участия, но вместе с тем говорится, что не так-то просто его взять. Кто же за ним будет ходить? Не может же она, молодая женщина, едва вступившая в свет, посвятить ему свою жизнь. Надо это дело хорошенько обдумать. Тем более, государство теперь обязано последить.
Но вот проходит некоторое время, и его первая жена, Анна Степановна, тоже получает такое же письмо. «Да, — пишет он, — милая Аня, теперь я калека. Ответь, возьмешь ли ты меня такого».
Как бомба разрывается в квартире по получении сего письма.
Но в тот же день бывшая жена ему пишет:
«Милый друг, Иван Николаевич, горько плачу о твоем ранении. Видно, уж суждено нам жить с тобой вместе. Зачем ты спрашиваешь — возьму ли я тебя к себе? Отпиши немедленно, куда за тобой приехать. Я буду работать. А там наш Петюшка подрастет, и все будет в лучшем виде».
Но вот проходит несколько дней. И вот — что это? К воротам подъезжает машина. И из нее выходит Иван Николаевич. Он цел и невредим. Ноги у него на месте. И на груди у него сверкает новенький орден.
Все жильцы, находящиеся в этот момент во дворе, раскрывают свои рты от высшего изумления.
Управдом подбегает к нему и говорит:
— Как понять это, Иван Николаевич? Судя по письму, мы думали, что вы в другом виде.
Приехавший берет управдома под руку и говорит ему:
— Любезный друг! Конечно, я поступил, видимо, неправильно, жестоко и так далее. Но суровая жизнь заставила меня задуматься. Я подумал: ничего, если меня убьют, но, если я потеряю руки или ноги, что будет со мной? Я живо представил себе эту картину и в тот момент решил сделать то, что я сделал. И в этом не раскаиваюсь, потому что теперь знаю, с кем мне надо жить, ибо брак — это не только развлечение.
Управдом говорит:
— Конечно, вы немножко перегнули в своем испытании. Это, как говорится, запрещенный прием. Но раз сделано, так сделано. От души поздравляем вас с орденом Красного Знамени.
Тут наш муж поднимается в свой этаж, к первой своей жене, Анне Степановне. И что там происходит в первые пять минут, остается неизвестным.
Известно только, что сын Петюшка по собственной инициативе бежит в верхний этаж и вскоре оттуда приносит папин чемодан с бельем и с носильными вещами.
В тот же день Иван Николаевич объясняется с Ритой. Он просит у нее прощения и целует ей руку, говоря, что он вернулся другим человеком и что к прошлому нет возврата.
Они расстаются скорее дружески, чем враждебно. Конечно, молодая женщина досадует на него. Но досада ее умеренна, ибо за время отсутствия мужа ей понравился один человек.
На улице
Еще недавно улицы у нас поливались из кишки. Стоял себе дворник, держал кишку и поливал. Ну, что это такое?
А кишка привинчивалась прямо к тумбе. Ну, некрасиво. Неестественно. Не соответствовало духу времени. Научная мысль, конечно, не могла примириться с таким процессом поливания улиц.
И вот появились машины. Такой бак на колесах, и от него идут всякие трубочки, откуда брызжет вода.
Машина проехала — и улица великолепно полита: ровно, экономно и даже, пожалуй, научно, поскольку мужчина, сидящий рядом с шофером, регулирует воду. То пустит длинные струйки, то, наоборот, короткие. Смотря по надобности.
Вот такая машина — это уже современность во всем ее блеске. Это уже техника на уровне культурного ума. Это уже культура, незнакомая прошлому миру.
Взять, например, Египет. Несмотря на свой высокий идейный уровень, египтяне, будь они трижды неладны, не знали ничего подобного. А уж, кажется, южная страна. Адская жарища. Невероятная пыль благодаря тому, что пустыни близко. Тем не менее они дальше деревянного ведра, вроде шайки, не пошли. И с тем, как говорится, и закончили свою историческую миссию.
А живи они, скажем, у нас, в наше время, так, небось, тоже пользовались бы плодами цивилизованной жизни. Вот уж, как говорится, не угадаешь, где найдешь, где потеряешь.
А у нас к таким машинам уже привыкли. И люди даже не останавливаются, когда идет поливка.
Конечно, в другой раз остановятся, чтобы чертыхнуться, когда машина их обольет.
Но нельзя же требовать невозможного. Уж нельзя настолько научно поливать улицу, чтоб вовсе никого не облить.
Конечно, если там нарочно обольют, так сказать, для потехи, — ну, тогда другое дело.
Например, вчера иду по улице и вижу: едет эта поливочная машина.
Сама голубая. Небесного цвета. Брызги сверкают на солнце. Ну, восхитительное зрелище!
Иду по тротуару и любуюсь.
А впереди меня идет какой-то человечек. Машина же катит нам навстречу и поливает.
А улица второстепенная, пустынная. Больше и нет никого. Так что машина поливает все: и дорогу и тротуар.
Я, конечно, прижался к ограде, чтоб меня не слишком залило. Поскольку, думаю, мужчина, сидящий с шофером, вряд ли учтет немногочисленных прохожих. Вряд ли он уважит ходьбу двух отдельных людей. Не может того быть, чтоб он, думаю, убавил струйки. Это было бы уж слишком грандиозно — видеть такое уважение в столь малом житейском масштабе.
Итак, я прижался к ограде, а идущий впереди меня, полагая, что струйки сократятся, пошел напролом. Ну, и, конечно, был облит и, так сказать, охлажден в своем оптимизме.
Он поднял крик. Из кабинки шофера высунулся регулировщик. Он от души хохотал, смотря на мокрую фигуру прохожего.
Машина без остановки поехала дальше. Но оскорбленный прохожий побежал за ней. Он побежал за ней, крича и размахивая руками, как бы призывая небо в свидетели.
Вдруг машина остановилась у светофора. Это была вынужденная остановка, и наш регулировщик волей-неволей встретился с противником лицом к лицу.
Что уж тут описывать их словесную баталию! В воздухе висела такого рода брань, которая не подлежит оглашению в печати.
Прохожие шарахались в стороны… Впрочем, сие замечание — художественное преувеличение. Прохожие, увы, никуда не шарахались. Прохожие спокойно слушали площадную брань. Еще бы, привычная музыка для всех, кто ходит по улице пешком.
Говорят, что в XVII веке задумали у нас с этим бороться. Специальные стражники с дубинками в руках шлялись по базарам и нещадно лупцевали каждого, кто загнет сверх нормы.
Но из этого ничего не вышло. Побитых было столько, что царь велел прекратить побоище.
Но одно дело — XVII век, а другое дело — сейчас. Уж, кажется, можно было бы образумиться. Ну, да не в этом дело.
То есть как это не в этом дело? Именно пришло время начать настоящую борьбу. А то, ей-богу, уши вянут.