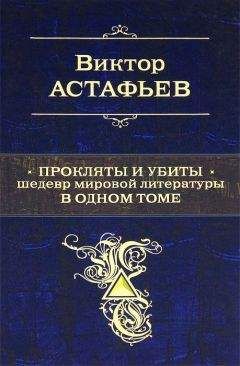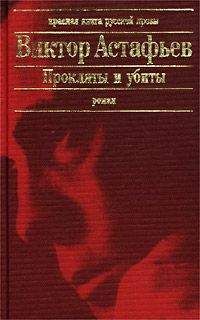Виктор Астафьев - Прокляты и убиты. Книга первая. Чертова яма
— Непривышный, — пояснил матери Корней Измоденович и авторитетно обнадежил: — Однако на позициях всему научится, холод и нужда заставят.
— Хорошо бы.
— Изнежен он у вас, вот ему и трудней середь людей, да ишшо в тако время.
— Да, да, конечно.
— Бывали хуже вгемена… — вмешался в разговор Васконян. — Ничего, Когней Измоденович, ничего, как вы говогите: Бог не выдаст, свинья не съест… Я уже самогонку пгобовав — и удачно. Вон гебята подтвегдят.
— Ашо-от!
— И не один я такой и пегеэтакий, в пегеплет попал, — будто не слыша мать, громко уже говорил Васконян, моментом захмелевший, и вдруг грянул: — «Мм-ы вгага встгечаем пгосто, били, бьем и будем бить!»
Мать Васконяна махнула рукой:
— Тоже мне Лемешев!..
Все с облегчением засмеялись, попробовали подхватить песню. Васконян решительно потянулся ко второй рюмке.
— Ашо-от!
— Мама, не мешай! Гечь буду говогить! — в рубашечке с отлинялыми полосками, с промытым до бледности лицом, на котором чернели каторжно брови, ночным блеском отливали глаза, утопив в бездонной глубине своей свет лампы, Васконян смотрелся только поднявшимся с больничной койки человеком. — За мою маму и за ваших матегей, Леша, Ггигогий! Мама, это замечательные гебята! С ними на фгонте… — Он трудно высосал рюмку до половины и, сам себе удивляясь, воскликнул: — Не идет! Но ты, мама, не обижайся… А как, мама, Ггигогий иггает на баяне, как иггает!.. Вы вот меня на фогтепьяно насильно тащили. Ггиша учився тайком. Ггише в пионегы нельзя. Вгаг! Кому — вгаг, кому? Тетка-убогщица, вечегней погой тайком его во Двогец пионегов. В пионегы ему нельзя. Баян советский довегить ему нельзя, винтовку пожавуста. Комиссагы — моводцы — все ему вгедное его происхождение пгостили… Ггиша, Ггиша, дай я тебя, бгат, поцевую.
Васконян сдавил костлявыми руками шею смущенно улыбающегося Хохлака, обмусолил ему ухо и щеку, Настасья Ефимовна начала промокать глаза платком. Мать Ашота, уставившись в стол, постукивала пальцами о скатерть, ребята, от неловкости снисходительно улыбаясь, переглядывались.
— Ничего, робяты, ничего. Мы фашисту-блядине все одно кишки выпустим! Потом и тута разберемся, — погрозив кулаком в потолок, звонким голосом возвестил Корней Измоденович.
Вскоре Хохлак с Лешкой подхватили совсем сомлевшего Васконяна, отволокли его в горницу, сами же торопливо снарядились в клуб, где, знали они, призывно мерцало пятнышко лампы. В протоптанную под окном избы Завьяловых щелку уж не раз вежливо стучали, вытребывая музыканта.
— Порешат стекла, порешат! — Настасья Ефимовна, понарошке сердясь, повысила голос. — Халды! Бесстыдницы! Сами, сами к парням так и лезут. Мы раньше…
— Обходили, обегали парней! По степу не гуляли с имя, на полатях да на вечерках не тискались, — тут же подхватил Корней Измоденович. — Война, Тася, война. Молодым последняя радость. Ступайте, ступайте, робятушки. Солдат идет селом, глядит орлом! Мы тут ишшо посидим. Гражданочка уложит своего вояку спать, мы дале поведем с ей беседу про политику и про всякую другую хреновину.
Мать Васконяна уезжала наутре, спать не ложилась. Она сидела возле спящего сына, тяжело, со свистом и писком дышащего простуженной грудью, стирала проступающий на лбу его, высоком и чистом, пот — Завьяловы подтопили в избе и в горнице, дров не жалея, — смотрела на сморщенное у рта, гиблым пухом обросшее костлявое лицо, неслышно плакала. Ей не принадлежащим, может, еще от зверей-самок доставшимся чутьем или инстинктом мать угадывала — видит она свое дитя в последний раз…
В предутренний час Харитоненко вежливо постучал в окно кончиком деревянной рукоятки кнута. Все повскакивали в избе, даже парни, совсем недавно домой вернувшиеся, проснулись, лишь Ашот спал безмятежно-младенческим сном, мать припала ухом к его груди, послушала сердце, коротко ткнулась губами в высокий лоб и вышла быстро из избы, отворачивая лицо, уже на ходу одевая рукавицы.
— Спасибо! Спасибо! — уже открыв дверь, обернулась, сверкнула слепыми от слез глазами в сторону Лешки и Гриши, которым постелено было на полу. Парни сидели в ворохе шуб, дох, со сна ничего не соображали. — Ребята, миленькие, поберегите его там, поберегите!
Войско, перемешанное с гражданским людом, неровной цепью вело наступление на чуть всхолмленную снежную целину, оставляя после себя густую топанину, соломенный сор и воронки, точно как от взрывов мин на том месте, где таилась под снегом, но была выковыряна и увезена хлебная копешка. Позади цепей, как бы поддерживая пехоту, стоял наподобие танка комбайн и целился пустым железным дулом хлебоприемника в пространство. За «танком» пылило, чуть дымясь, ворохами валилось тут же рассыпающееся соломенное месиво. Мирная картина привычного уже труда под привычным зимним небом, бугристым на горизонте от недвижно лежащих, снегом набитых облаков, в любую минуту готовых двинуться по высоким просторам, заполнить собою небо, вывалить весь белый груз на зимнюю землю, да и понестись налегке вдаль, в вечное странствие, во всегда им открытые небесные дали.
У костра, горящего средь поля, сидел на ведре, опрокинутом вверх дном, полководец, курил, жмурился, морщился, отворачивался от шатучего жара и дыма, думая обо всем сразу и о братьях Снегиревых тоже, так некстати помянутых Валерией Мефодьевной…
Два противоречивых чувства боролись в нем — одно: прикинуть еще две-три копешки на брата, уж больно наловчились солдатики управляться с копнами, больно уж наступательную стратегию тонко продумали: впереди авангардом идут девки с лопатами, разгребают снег на копешках, да и тут их мудрые воины научили не пыхтеть, не скрести лопатою поверху, но разрубать на три-четыре пласта плотно слежавшийся снег, разъять пласты, разбросать их на стороны — и вся недолга. Маковка смирной копнушки светится младенческим темечком или как плешь деда Завьялова, прелью пышет, слабеньким теплом курится, движения, шороху, употребления, обмолоту жаждет.
Следом движется войско, составленное из крепких забойщиков с вилами. Шестеро вил всаживаются по черенок в хрустящую копешку, под самый под теплый соломенный подол забраться бойцы норовят, поддеть ее, опрокинуть, будто бабу, ну и… плюнули, дунули, хо-хо! — и вот лежит кверху бледной задницей копешка-матрешка, зернышки из нее на снег высыпаются, ость пылится, обнажившиеся, на свету ослепшие, тучами расплодившиеся, мечутся ожиревшие мыши. Допревать бы по весне под жарким солнцем, среди снежных луж копнам, затем гореть, освобождая землю для плуга, бороны и сеялок. Однако назначение пусть и у занесенных снегом копешек было совсем другое: сколько ни есть колосьев под снегом — сохранить, зернышками людей, скот и птичек питать.
Следом за ударниками-молодцами с волокушами наступает Коля Рындин, сам себе конь, он в чембарах, в химических скороходах, с оглоблей на плече вышагивает, наевшись досыта столовской пищи, наверхосытку полный противень до хруста зажаренной пшеницы срубавший, по-конски грохает на всю округу, вилами поддевает копны, точно оладьи вилкой в масленицу за столом у бабушки Секлетиньи, прет на горбу целый воз к сыто урчащему комбайну, да еще и песню орет, совсем не стихирную, не божецкую: «Распустила Анька косы, а за нею все матросы». Зазноба его, Анька, обучила Колю Рындина песне этой вольной. Услышь бабушка Секлетинья такую срамотищу, теми же вилами по хребту внучка отходила бы и епитимью велела б на него наложить, и бил бы добрый молодец лбом об пол, замаливал грехи. Армия, конечно, не сахар, но в ней то хорошо, что от утеснений веры полная свобода, да и «товаришшэв» много, как поется в одной кужебарской песне.
Дополнительный отряд трудящихся у комбайна копошится, словно боевой расчет возле орудия, вилами копны растеребливает, рыхлит солому, граблями к подавальщикам подгребает, те на полок вороха подают. Мчится солома под гремящий барабан в пасть молотилке. Оно, конечно, сухие бы снопы туда, в молотильный-то зев, да кто снопы нынче вяжет? Сжать, в снопы хлебушек связать — времени и сил у народа не хватило. Вот она, желтая, поникшая нива, до самого горизонта, до лесов самых сиротски плачет, сердце рвет и все ниже и ниже клонится, бумажно шуршит пустой колос — ветру и снегу добыча.
«Нет, придется набросить копешку-другую на брата, придется, каждая горсть зерна — спасение. Вон в Ленинграде голод, да какой! Провоевали половину страны! Гитлер, гад, нарочно, видать, под урожай войска двинул, не дал хлеб убрать», — думает, но не успевает довершить думу полководец. По дороге галопом скачет серый конь, из-под копыт его сыплется ледяное крошево. Не из Осипова скачет конь, от центральной усадьбы совхоза скачет. «Отра-або-ота-ались!» — падает сердце у полководца. Видит он, как во поле, на белых пространствах замирает наступление по мере приближения всадника, как охнул и заныл на холостом ходу все пожирающий, душной гарью дышащий комбайн.