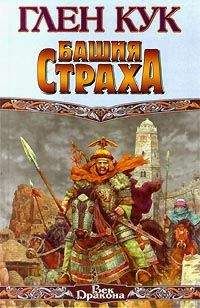Виктор Лесков - Под крылом - океан.
— Она решила, что вы погибли, — ватно застряло в ушах Пахарева.
Погиб? Почему он должен погибнуть? Ах да, опасная работа. Ведь это правда, действительно правда. Он давно погиб, погиб много лет назад, сам того не замечая. Он погиб не только для нее, а и для себя, для своей личной жизни, когда побоялся ее и своих чувств, когда начал жить в жестких рамках рационализма. Но это была уже не жизнь, а роль, игра, запрограммированное движение автомата. А настоящая, полная жизнь — с любовью, разлуками, страданиями, счастьем — осталась там, в далеком звездном вечере, осталась вместе с девочкой в ситцевом халатике.
Он стоял в телефонной будке, и она казалась ему склепом, в который его занесло из минувшей жизни в жизнь другую, чужую для него, холодно-отстраненную, где нет для него ни жалости, ни участия, на любви. А есть только одно: его работа, его тяжелые самолеты, чугунный звон неба… Он смотрел сквозь толстое стекло на улицу, на прохожих, словно явился незваным гостем, смотрел с отдаляющегося берега на незнакомое течение некогда родной ему реки. Как же «то все просто связано: ее смерть и его жизнь. Ни одна смерть не касалась его так близко.
— Вы меня слышите? Что вы молчите?
— Слышу.
— Для вас осталась пачка ее писем. Она все ждала ваш адрес. Вам переслать или вы придете сами?
«Письма… Ее письма… Это все, что осталось для него из нежного в этом мире…»
— Приду. — И собственный голос показался ему чужим.
Всю дорогу до их дома, на ступеньках лестницы, где они прощались, его душу разрывала высказанная Хемингуэем истина: когда делаешь все слишком долго или слишком поздно, нечего ждать, что около тебя кто-то останется…
Контрольный полет
Они еще курсантами, лет пятнадцать назад, летали вместе, но так и не стали друзьями. Завалов ближе всего сошелся с Воскресным, когда их откомандировали переучиваться на новую технику; два лейтенанта из одного училища в незнакомой среде, естественно, держались друг друга.
Однажды они пришли в гостиницу навеселе, старательно поддерживая друг друга, и их приметили. На следующий день обоих вызвал начальник курса.
— Зачем нам гореть обоим, Сергей, — развел руками Костя Воскресный. — Ты знаешь, какое у меня положение.
В критической ситуации каждый считает свое положение безысходным. А у Кости к тому же начиналась любовь с дочкой генерала, и он не хотел быть скомпрометированным. На «коврике» у начальника учебно-летного отдела Завалов сказал, что, устанавливая себе норму, он немного ошибся, перебрал, а Воскресный был совершенно трезв и вел его.
На этом сближение однокашников и кончилось.
Вскоре они вообще расстались: после переучивания Воскресный женился на дочери начальника учебно-летного отдела и остался возле нее, а Завалов уехал в часть.
Они встретились снова лет через семь. В аллее а далеком гарнизоне руку капитана Завалова энергично тряс сияющий майор Воскресный в новой тужурке с многообещающим ромбом академии. За время разлуки перемены произошли не только в звании. Время заметно изменило их, резче выразило те черты, которые в их лейтенантской юности только намечались.
Завалов, казалось, стал еще выше, еще больше раздался в плечах и похудел, а на висках появилась седина, заметно старившая его.
Костя Воскресный, напротив, выглядел моложе своих тридцати. Он стал вроде бы круглее, приземистее, как бы обтекаемее, с широкой открытой улыбкой на нежно-розовом лице. Пожалуй, полнота только и выдавала, что он отнюдь уже не юноша.
— Приехал к вам на должность замкомэски, — сообщил он. — Ну а ты как?
— Летаю на заправку днем и ночью.
— Ого, асом стал. А должность, должность как? — Скользнул взглядом по капитанским погонам Завалова.
— Командир корабля.
— А-а-а.
Он спросил еще о детях, о жене и заторопился:
— Ну пока, Сергей. Я спешу, мы должны встретиться поближе, вспомнить прошлое.
— До свидания, товарищ майор.
— Ну что ты, Сереж? — приостановился Воскресный. — Для кого майор, а для тебя… Константин Павлович.
Завалов, опуская взгляд, кивнул и подумал, что «поближе» они никогда не встретятся.
В полку майору Воскресному не везло. За полгода три предпосылки к летному происшествию: посадил машину до полосы; дважды, неумело пользуясь тормозами, полностью «разувал» самолет, сжигая покрышки.
Кое-кто уже втайне побаивался с ним летать. Завалов, узнав, что по сложному варианту, при низкой облачности, запланирован у него инструктором Воскресный, подумал, что надо быть повнимательнее. На следующий день действительно установился «минимум»: низкая, хоть шестом доставай, облачность, размытый горизонт за сизой дымкой.
Это было время весны, конец марта, когда тепло набирало силу и на полях отдельные проталины стекались в раздольное, маслянистое, будто из нефти, море, на котором одинокими островками блестел глянцевой коркой выветрившийся колючий снег. Сверху земля походила на пенистый прибой, скрывающий посадочную полосу, и самолет приходилось пилотировать только по приборам почти до точки выравнивания.
Им оставалось выполнить последний, третий полет.
— Дай, Сереж, я этот круг сделаю, — попросил Воскресный, и Завалов отпустил штурвал. «Надо смотреть», — подумал он, неторопливо стаскивая влажные перчатки.
Летчик показывает себя на предпосадочной прямой после четвертого разворота. Полет — это работа, где требуются высокая организация человека, способность чувствовать детали, ювелирная точность движений и, как любая другая работа, выражает личность: интеллект, требовательность к себе, мужество.
Воскресный напряжен. Его лицо сосредоточенно, губы крепко сомкнуты, на крыльях носа появилась испарина. Без напускного глубокомыслия лицо его кажется простодушным, как детский рисунок.
— Полоса слева, двести, — информируют с земли.
Инструктор, не раздумывая, поспешно вводит машину в разворот, чтобы побыстрее загнать стрелку «курсовика» на ноль, а самолет по инерции проскакивает створ полосы.
— Справа сто пятьдесят, — докладывает руководитель посадки.
Правый крен, потом снова левый доворот, и заход получается по синусоиде, явно непоказательный.
Сосредоточив все внимание на выдерживании курса, Воскресный забывает о высоте и вдруг, заметив, что идет выше установленной, бросает машину на снижение, стягивает рычаги оборотов до малого газа.
Тяжелые, иссиня-черные, цвета мокрого снега облака плотным слоем окутывают самолет, даже не видно концов плоскостей. Без видимости земли теряется ощущение полета. Но в подсознании живет чувство опасности, и от летчика требуется усилие воли, чтобы хладнокровно продолжать «слепое» снижение.
Воскресный нервничает, непрерывно сучит штурвалом, создает ненужные крены, разбалтывает самолет. Эта суетливость была его старым недостатком — еще с училища, но тогда Завалов зажимал штурвал двумя руками и говорил нарочито спокойно: «Расслабься, Костя, все успеем». Но тогда они были курсантами. А теперь Воскресный — инструктор.
Наконец в кабине посветлело, будто легким крылом смахнуло тень сумерек, стала просматриваться земля.
— Рвань всякую прет, — недовольно пробасил Воскресный, однако в его голосе чувствовалась и приободренность — впереди расстеленным для отбеливания полотном лежала посадочная полоса. — Выбрались мы из этой мути, а, Серег?
Завалов сдержанно кивнул и отвернулся к боковой форточке: он не мог поддерживать разговор, в котором так легко осквернялось небо. Он до сих пор чувствовал и помнил восторг первого полета, а до прихода в авиацию сменил несколько профессий и решил, что он человек без призвания. А небо открылось ему радостью.
Но вместе с тем Завалов помнил, и так же явственно, секунды оцепеняющего ужаса — первые секунды неожиданного падения… Грозовое небо низвергало самолет вниз с отказавшим двигателем, а он не мог даже доложить на землю о срыве — язык словно задеревенел, прилип к гортани. Но и после этого случая не изменилось его отношение к небу.
Посадка у Воскресного получилась мягкой, но с небольшим перелетом, как и положено садиться опытным летчикам. Однако, на профессиональный взгляд, она не была безупречной: с высокого выравнивания, без запаса скорости машина садилась не там, где хотел летчик, а неслась над землей насколько хватало аэродинамических сил: И сам Воскресный не был уверен, что следующая посадка получится такой же удачной.
А сейчас инструктор доволен собой: «Конец — делу венец!» И в благодушном расположении духа открыл форточку кабины. Упругий поток освежил лицо. Свистящий шум двигателей заглушил сухой треск наушников.
Торопливый, на одной ноте, доклад штурмана застал летчиков врасплох:
— Командир, скорость двести, до конца полосы шестьсот!