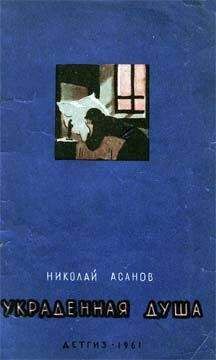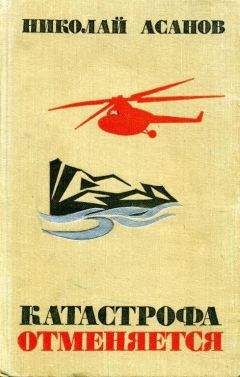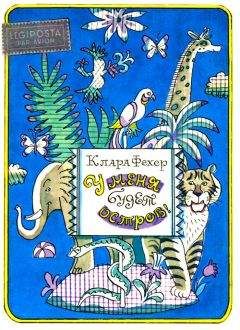Николай Асанов - Электрический остров
Вот проследовал Райчилин с печально-таинственным видом, прошел Возницын, с таким недовольным лицом, словно его оторвали от решения мировых проблем. Последним появился какой-то меднолицый, шумный великан, так отличавшийся от бледных горожан, что все оживились, шепотом спрашивая, кто это такой и как он попал на заседание?
Оказалось, что это председатель колхоза «Звезда» Мерефин.
Мерефин и сам с любопытством рассматривал ученых и все кого-то ждал. Он оборачивался на каждый скрип двери, но постепенно оживление его падало, и он наконец затих в своем уголке, положив загорелые натруженные руки на колени и склонив голову.
В назначенный час Далматов вышел пригласить посетителей к себе в кабинет.
Поздоровавшись со всеми, он нетерпеливо спросил:
— А где же Орленов?
Поднялся Райчилин и сказал приличествующим случаю трагически-осуждающим тоном:
— Андрея Игнатьевича бросила жена, и он, поддавшись состоянию аффекта, пытался покончить жизнь самоубийством. В настоящее время он находится в больнице. Состояние здоровья тяжелое.
Если бы здание вдруг качнулось от землетрясения, это, вероятно, не вызвало бы такого волнения. Пустошка схватился за голову. Подшивалов вздернул подбородок, как будто хотел отомстить неудачнику своим презрением. Горностаев, наоборот, опустил лицо вниз, только пальцы его нервно двигались по столу. Мерефин вскочил на ноги, резко поворачивая голову, смотрел то на одного, то на другого, бормоча упавшим голосом: «Не может быть! Не может быть!» Один Райчилин держался спокойно. Он с достоинством подождал, не зададут ли ему какой-нибудь вопрос, показывая, что может ответить на любой, потом медленно склонил голову в сторону Далматова и сел. Секретарь обкома посмотрел суженными глазами на Горностаева. Тот, казалось, не мог видеть взгляда Далматова, однако послушно встал и сказал срывающимся голосом:
— Факт покушения на самоубийство не установлен. Возможен несчастный случай, тем более что Орленов был действительно в тяжелом состоянии. Товарищ Райчилин не сказал, что жена Орленова ушла к Улыбышеву, против которого Орленов и выступал…
Сергей Сергеевич поднялся над длинным столом.
— Какое это имеет значение? — с возмущением сказал он. — Это их личное дело! Как говорит русская пословица: «Антонов есть огонь, но нет того закону, чтобы огонь всегда принадлежал Антону…»
— Это не пословица, а одна из улыбышевских цитат!— холодно сказал Горностаев. — Партийная организация филиала еще рассмотрит поведение товарища Улыбышева в свете происшедших событий…
— Победителей, Константин Дмитриевич, не судят!— сухо ответил Райчилин. — Улыбышев крупнейший ученый! Он создал электротрактор. Не будем подходить к нему с обывательской меркой. Он одинок, он свободен, и его счастье, что такая очаровательная женщина, как Нина Сергеевна, полюбила его…
— Сядьте!— тихо сказал Далматов.
Этот разговор, происходивший, в сущности, над гробом, был так нелеп, что Далматов испытывал странное ощущение, словно его лично обидели, разрушили его веру в человека. Орленов понравился ему своей независимостью суждений, своим острым умом, и Далматов не мог поверить, будто человек этот сам ушел от жизни и от борьбы. И он с удовлетворением услышал, как председатель колхоза Мерефин вдруг пробормотал:
— Не верю я, чтобы Андрей Игнатьевич мог наложить на себя руки…
Да, Мерефин сказал то, о чем подумал сам Далматов. Секретарь обкома живо обернулся.
— Вы его знали прежде, товарищ Мерефин?
— По фронту, товарищ секретарь обкома! — вытянувшись и опусгив руки по швам, ответил Мерефин.— А здесь вот — опоздал обнять!— и, внезапно утратив выправку, опустился на место.
Далматов внимательно посмотрел на Мерефина. Открытое, в щербинах оспинок лицо председателя колхоза было таким печальным, будто он знал, что мог остановить Орленова на краю смерти, и жалел, что не успел сделать этого. Только Мерефин и смешной толстяк, инженер Пустошка, искренне выражали свое горе. Инженер даже говорить не мог, так он был ошеломлен тяжелым известием.
— Но вы, кажется, выступаете против Орленова в его споре с Улыбышевым, товарищ Мерефин? — спросил Далматов.
— А спора-то еще не было, товарищ секретарь,— тихо ответил Мерефин. — Мы подготовились к электрической пахоте, а товарищ Орленов стоял за то, чтобы отсрочить ее, вот мы бы и установили — надо ли отсрочить или начинать помаленьку. Какой же тут спор, тут производственное совещание. По такому поводу люди за веревку не хватаются…
— Никто не говорит, что Орленова довели до самоубийства спорами! — резко воскликнул Райчилин.— Я искренне жалею, что он не может присутствовать на нашем заседании. Он бы первый понял свою ошибку…
— Подождите, подождите, — остановил его Далматов. — Товарищ Пустошка, вы, кажется, поддерживали Орленова? Что вы скажете по существу спора?
Инженер был бледен, угрюм. Он вяло встал, махнул короткой ручкой и сказал:
— Что ж без него говорить? Тракторы почти готовы, а время покажет, кто прав, кто виноват. Не могу я говорить, товарищ секретарь! Разрешите мне уйти?
— Что же, идите, — задумчиво глядя на него, сказал Далматов.
— Гора родила мышь!— тихо, но очень внятно констатировал Райчилин.
Пустошка, неверно шагая по длинному ковру, медленно шел к двери. Там он обернулся — то ли понял наконец слова заместителя директора филиала, то ли захотел объяснить причину ухода.
— Может, Орленов еще выздоровеет, — сказал он. — Тогда он вам сам скажет, а я не могу, извините.
— Вот чудак! — неодобрительно пробурчал Подшивалов. Он сидел важный, равнодушный, привычный к серьезной, тихой атмосфере, где каждое слово должно быть взвешеио и размерено, так как от него часто зависят судьбы людей, производств, научных решений. Ему было безразлично все, что мог сказать Пустошка, так как теперь он был уверен, что честь филиала никто больше не унизит. Остальное его не занимало.
Далматов внимательно и как-то задумчиво взглянул на старейшего ученого, на подавленных и притихших Горностаева и Мерефина, хотел что-то еще сказать, но только кивнул головой, давая понять, что разговор окончен. Райчилин живо вскочил и подбежал к нему:
— Можно продолжать испытания, товарищ Далматов?
— Вы же слышали, Пустошка сказал, тракторы почти готовы, — угрюмо ответил Далматов.
Райчилин поклонился три раза подряд и важно прошествовал к двери. Там он добродушно пошутил:
— Сражение прекратилось за отсутствием сражающихся!
И неожиданно в ответ услышал резкий голос Горностаева:
— Опять улыбышевские словечки?
Далматов подождал, пока закрылась дверь, взял трубку и позвонил в больницу. Дежурный врач на вопрос о здоровье Орленова ответил:
— Очень плохо. Едва ли выживет…
Грустное сожаление тронуло лицо секретаря. Подумалось, что, будь Орленов здоров, спор, пусть и мелкий, не остался бы нерешенным. И вдруг захотелось вернуть всех обратно, стукнуть кулаком по столу, выяснить, но на память пришло виновато-испуганное лицо Пустошки, важно-поучающее Подшивалова, подобострастное Райчилина, угрюмое Горностаева. Эти товарищи не хотели спорить. Да и был ли спор?
Он с усилием отодвинул от себя «дело Орленова», записал в дневнике: «Поехать на испытания электротрактора», вздохнул и вызвал помощника. Были еще сотни других дел, которые требовали его немедленного вмешательства. Но «дело Орленова» осталось в памяти, как остается ссадина, нет-нет и напоминая о себе.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
1
Марину по-прежнему не пускали в больницу, но она упрямо приходила туда каждый вечер. Орленов не умирал, но и не жил. И, работая в лаборатории, она часто думала о том, что ведь так легко ошибиться и взяться рукой за находящуюся под током деталь…
Прибор, над которым Марина и Андрей так много поработали, был сдан в производство. Но в лаборатории осталось еще много такого, что напоминало об Андрее, о его мыслях, о его надеждах. Марина могла пока продолжать работу над отдельными узлами прибора, как бы заменяя отсутствующего. Но что будет потом, позже, когда он совсем исчезнет из жизни, когда и последние, оставленные ей в наследство мысли будут воплощены в металл и пластмассу приборов? Как бы ни было трудно, она справится с ними, хоть бы ей пришлось работать вот так всю ее жизнь! Орленов никогда не брался за невозможное. Все, что он продумал, было выполнимо. И, выполняя его замыслы, ничего не имея, кроме его работы, она жгла свою свечу жизни с двух концов, с каждым днем приближаясь к окончанию оставленных им дел…
Она не встречалась с Ниной. Марина не хотела такой встречи, да и Улыбышев постарался куда-то спрятать бывшую жену Орленова. Нина не появлялась больше ни в лаборатории, ни в вычислительной. Висел приказ об увольнении ее в отпуск, и только. Никто не знал, где она живет, о чем она думает. Улыбышев ежедневно уезжал куда-то, но так как он сам водил машину, то не у кого было даже спросить, как далеки его дороги. Слухи об убийстве Орленова замолкли. Перестали говорить и о самоубийстве. Теперь почти все думали, что произошла одна из тех ошибок, нелепых ошибок от неосторожности, против которых бывают тщетны все средства техники безопасности. На очередном партийном собрании Горностаев похвалил прибор Орленова, высказал надежду, что Орленов выздоровеет и когда-нибудь еще вернется в их коллектив, и поручил Оричу и Велигиной, как самым близким его друзьям, заботу о нем, пока он находится в больнице. В связи с этим о Марине никто не вспомнил. Но ей и не нужно было напоминаний, она продолжала ежедневно ездить в город и ежедневно получала отказ в пропуске к умирающему.