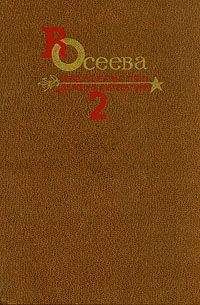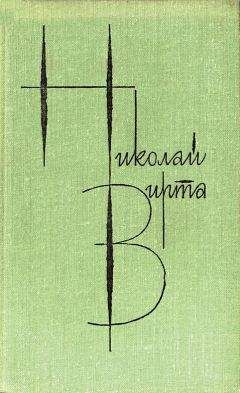Валентин Катаев - Собрание сочинений в девяти томах. Том 1. Рассказы и сказки.
Вот: стопа бумаги, прекрасные чернила, портсигар, спички, стакан воды, коробка лепешек, капли, вата, йод.
Жалкое противоядие.
Попробую. Кладу на язык конфету «Эйкалипто-ментол». Против кашля. Холод наполняет рот, грудь, сердце.
В соседней комнате две женщины читают «Двенадцать» Блока по-французски. Милая Москва. Она еще любит революцию и помнит Блока. Но дверь моя заперта. Я тверд.
V«Эйкалипто-ментол». Смешная игра в спокойствие и холод.
Она — уезжает.
Она не может не уехать. Дома ее ждут. Ждут родные, ждут словари, ждет мальчик, обещавший застрелиться, если она не приедет. Но самое главное — у нее уже есть билет, это твердый, картонный четырехугольник с дырочкой посередине. Он прострелен навылет, он обречен. Никакая сила не может сделать его недействительным.
В последний раз она сняла шубку с милым детским мехом на воротнике и обшлагах. В последний раз ее синие глаза отразились в моем холостом зеркале и сделали его смуглым. В последний раз она сидела у меня на коленях в сереньком мохнатом свитере, и в последний раз я целовал ее полное горло, закинув голову и видя закопченный потолок со штукатуркой, отщелканной октябрьскими пулями.
— Не уезжай, — говорил я, валя в ноги извозчика плед. — Не уезжай, подумай. Я расскажу тебе о чудесных днях революции, нищеты и героизма. Я расскажу тебе о своем отце, который умер от голода в двадцатом году. Я расскажу тебе о том, как у меня в комнате варили самогон, и о том, как жизнь сгорала в спиртовом пламени февральских снегов, доходивших до нижних стекол. Не уезжай. Мне нужна хорошая жена и добрый друг. Я устал. Не уезжай.
Но вьюга била в глаза. Ветер сек розгой щеки. Переулки, сталкиваясь, вырывались белыми вихрями, и трамваи, эти ярко освещенные парикмахерские на колесах, вступали в перестрелку с батареями кино и автомобилей.
— Не отпускай меня, — говорила она, и снег налипал на ее ресницы. — Зачем ты отпускаешь меня? Что я буду без тебя делать?
Но вокзал уже грозил циферблатом, поезда уже кричали в метели, и бляхи носильщиков гремели номерами, как щиты героев. Билет был прострелен навылет, и никакая сила в мире не могла заставить его выжить.
— Зачем ты меня отпускаешь? — спросила она на площадке вагона, когда уже дважды прозвонил колокол. — Увези меня отсюда к себе. Я не могу без тебя жить. Ты потеряешь меня.
Я молчал. Я знал, почему ее отпускаю. Мне нужна была любовь на всю жизнь. Или — к черту! На меньшое я был не согласен. Весной она приедет, и уже все время мы будем вместе. Проклятая жадность. Все или ничего. Мир или цели. Я привык думать картонными законами плакатов и других законов не знал и не хотел знать. Я еще мерил жизнь железным аршином девятнадцатого года. А уже электрические витрины салон-вагона под шумок стрелок проскользили по моим слезам, и красные фонари последнего вагона укачали на вышедших из ремонта рессорах последнее слово, сказанное ею.
VIЯ не буду курить трубки, не буду пить вина с друзьями, не буду торопиться по Кузнецкому в девять часов вечера за котиковым саком золотоволосой красавицы.
Что же мне делать? Жизнь незаполнима.
Остается одно развлечение — ее брат.
Он гораздо старше меня, он писатель, у него хорошая жена и строгие взгляды на жизнь. Он не любит революции, не любит потрясений, не любит нищеты и героизма. Но у него — синие глаза. Правда, они только вечером синие или когда он сердится. Но они синие, с чернильными зрачками. Этого достаточно для того, чтобы я приходил к нему вечером и садился на диван против зеленого абажура лампы, висящей над писательским письменным столом.
— Иван Иванович, я люблю вашу сестру.
Он подымает кверху ножницы, которыми вырезывает из газеты одобрительную о себе рецензию.
— Вы, конечно, шутите?
— Нет, я не шучу. Я ее люблю.
— Увольте меня, пожалуйста, от подобных разговоров. Я не люблю глупых шуток.
— Я люблю вашу сестру. Я не могу без нее жить.
Он с нескрываемым любопытством:
— Нет, вы это серьезно?
— Серьезно.
— Да вы что, с ума сошли, что ли?
— Да, сошел. Я люблю вашу сестру. Я на ней женюсь.
Электрический разряд. Грохот и смятение. Вырезка и ножницы падают на стол. Самовар начинает тонко петь. Синие глаза круглеют до отказа. Жестом благородного отца он хватается за голову и начинает бегать по комнате, садясь на встречные стулья.
— Что! Что-о? Что-о-о? Жениться? Вы? На моей сестре? Да вы что, в уме? Тася, дай ему воды. Дайте-ка я попробую ваш пульс, голубчик; вам, вероятно, нездоровится!
Он немного успокаивается.
— Нет, это даже смешно. До того глупо, что смешно.
— А почему бы и нет?
— Почему? Да вы что — ребенок! Нет, вы это нарочно?
— Серьезно.
— Ах, серьезно! Так я вам скажу тоже серьезно. Вы это бросьте. Бросьте и бросьте. Ах, я дурак. Как я допустил? Как я мог это допустить? Вот, не угодно ли...
И он начинает опять бегать по комнате, садясь на все стулья. Он не может себе простить этого рокового знакомства. Зачем он позвал меня к себе в сочельник? Ну да. Он один во всем и виноват. Вот здесь, в этом углу, стояла елочка, вот тут, на диване, сидела она, сестра, приехавшая на праздники в первый раз в Москву. Вот там стоял я и читал стихи. Затем опера. «Гугеноты» и скверный состав. Но кто ж мог предвидеть несчастье? Боже, боже! Вся вина в многочисленных глазах благородного семейства падает исключительно на него.
Он долго всматривается в меня и вдруг опять впадает в отчаяние:
— Что? Жениться? О, господи! Вы? На ней? Что я наделал, что я наделал! Надеюсь, по крайней мере, что хоть она...
— Она меня любит.
Он падает в кресло.
— У меня нет больше сестры! Делайте как знаете!
Я даю ему успокоиться. Я мягко:
— Иван Иванович, но в чем же дело? Почему? Ради бога, объясните. Может быть, вы подозреваете меня в каких-нибудь недостойных поступках и тайных пороках? Уверяю вас, что это недоразумение. Я честный и нравственный человек.
— Сохрани бог. Я уверен в ваших качествах, но говорю вам, как друг: бросьте. Ничего из этого не выйдет.
— Я люблю ее.
Он кисло и жиденько смеется:
— Вы опять свое? Да поймите же: вам нельзя на ней жениться.
— Почему же?
Он в бессилье машет руками. Он не понимает, как это я не могу постигнуть такой элементарной вещи. Он собирается с силами и начинает объяснять. Ей нужно учиться, у нее университет, книги, профессора. У нее, наконец, жених. У жениха дом. Особняк. Она избалована. Я в ней ошибаюсь. Она пошутила. Наконец — родственники. Что скажут родственники? Она, и вдруг выходит замуж за поэта. За бедняка, за бродягу, за... за!.. Он не находит слов. Это нечто чудовищное. Нет, нет! Этого не может быть! Этого не будет! Бросьте, бросьте и бросьте.
Он несколько раз начинает истерически хохотать, несколько раз умолкает и несколько раз ищет спички, которые у него в руке.
И только серый домашний глаз его жены внимательно и сочувственно смотрит на меня из-за самовара. Я же упрямо повторяю:
— Я люблю ее.
В сущности, я говорю не ему. Я говорю так, чтобы меня услыхала она за тысячу верст. Кроме того, так забавно, когда он сердится, этот, в сущности, добрый человек и неплохой писатель.
VIIТогда он разражается великолепным фельетоном о долларе. Это его коронный номер.
— Молодой человек, молодой человек. (Это он мне. Совсем как издатель о меди, которая торжествует.) Ах, молодой человек. Знаете ли вы, что такое доллар?
— Нет, дорогая тетя, тебя я не знаю. Что такое доллар? Я его никогда не видел.
— То-то. Доллар — это, батенька, все. Я преклоняюсь перед долларом. Я влюблен в доллар. Пять долларов — один фунт стерлингов. Вот. Это единица измерения человеческого права на существование. Вы знаете, как живут люди в Америке? Отель. Миллион этажей. Номера. В каждом номере — три крана. В одном — кипяток, в другом — вода ледяная, в третьем — комнатная. Возле каждой постели — ночной столик, и на каждом столике... Ну, как вы думаете — что?
— Самоучитель танцев.
Он презрительно морщится. Когда говорит о его величестве долларе, моя шутка глупа, фельетонна и неуместна.
— Нет. На ночном столике, батенька, Биб-ли-я. На каждом. Да-с. Заметьте себе — Библия. Затем вас по лифту передают прямо на подземную станцию метрополитена и через пять минут вас в лифте же подымают на другом конце города, за пятьдесят верст, на сороковой этаж. Так, что вы даже никакого Нью-Йорка и не видите. Вот. Это, ба-тень-ка, называется доллар. О, я преклоняюсь перед ним.
И неожиданно:
— А вы? Что у вас есть? У вас есть лакей? Нет! У вас есть одеяло?
Я:
— Нет.
— Чем же вы укрываетесь?
— Пальто.