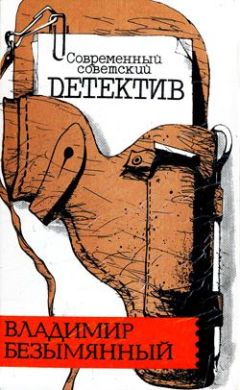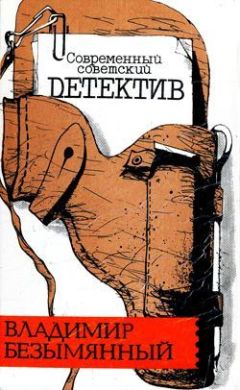Анатолий Ананьев - Версты любви
Он спросил:
«Мошна большая?»
«Денег сколь, что ли?»
«Да».
«Хватит».
«Ну-ну, поглядим...»
Не то чтобы я понимал все, что и как было (это ведь сейчас только я так ясно все представляю и оцениваю), шел мне всего лишь седьмой год; но как ни мало́ бывает наше детское разумение, каким-то, даже затрудняюсь сказать, седьмым ли, десятым ли, а может, как раз первым и самым обостренным детским чутьем уловил я то недоброе, что жило в этом человеке, и мне было жалко отца, когда он, стараясь не замечать хозяйского презрения, разговаривал с ним (хотелось же купить дом получше!), и с ненавистью, впервые, может быть, возникшей во мне, смотрел на этого незнакомого сухощавого человека в жилетке, выдвигаясь вперед, чтобы он непременно понял мой взгляд, и, в конце концов, тоже в упор посмотрев на меня, он не выдержал и как бы цедя слова сквозь зубы, проговорил:
«Эк волчонок какой растет, чисто волчонок».
Он запросил за дом сумму, какую отец не мог ему заплатить.
«Вы серьезно? — с удивлением произнес отец. — Кто же вам даст такие деньги!»
«Найдутся, дадут».
«А дешевле?»
«Нет».
«Но, может...»
«Дешевле — поищи рядом».
«Ну какой это разговор!»
«Поищи, поищи», — повторил он, снова и с той же презрительной усмешкою оглядев отца и меня с ног до головы. Одеты мы были в старое, поношенное — что же еще можно было надеть в дорогу! — и это, думаю, как раз и вызывало в нем недоверие к нам; но, может, не только это. Я помню, как мы выходили со двора, провожаемые с крыльца прищуренным хозяйским взглядом, как отец, уже очутившись на улице, еще несколько раз останавливался и, полуобернувшись, смотрел на пятистенник; дом нравился отцу, я понимал это и, мне кажется, переживал вместе с ним, и тем сильнее испытывал неприязнь к хозяину, оставшемуся на ступеньках, неосознанно, а лишь детской интуицией видя в нем неожиданно открывшееся на всеобщем фоне добра и счастья зло. Конечно, может быть, не так уж и ясно я представлял себе все это, о чем говорю сейчас, но вот сохранилось же чувство, а значит, оно было, и я не мог выдумать его; оно повторялось во мне теперь, то чувство, когда я сидел возле печи в старцевской избе, глядя на шесток и не видя его, и не сознавая, что за спиною, у стола, так же умостившись на табуретке, вся освещенная ярко горящей керосиновой лампой, сидит хозяйка и с жалостью ли, осуждением или иным каким чувством смотрит на мои сгорбленные плечи; да, оно повторялось; вместе с тем как я видел себя идущим рядом с отцом и моя маленькая рука, казалось, грелась в его теплой и жесткой ладони, вместе с тем как я будто оборачивался, подражая отцу, и оглядывал добротный и, как я уже говорил, словно возвышавшийся над всеми другими избами пятистенник — я испытывал нараставшее с каждой минутою чувство и страха и ненависти к этому вдруг открывшемуся злу. «Вот откуда все! С него... все начинается с него», — мысленно повторял я пришедшие на ум, несомненно, только теперь слова, но мне казалось, что я произносил их тогда, во всяком случае, что-то очень схожее по смыслу, хотя, конечно, тогда, в Старохолмове, я не мог ни думать так, ни тем более произносить что-либо близкое к этому; я лишь смотрел на все, может быть, действительно-таки волчонком, и когда мы второй раз пришли к хозяину пятистенника, помню, что-то заставило меня спрятаться за спину отца, и уже оттуда, как бы из-за укрытия высунув голову, наблюдать за сухощавым и казавшимся мне злым (как будто еще отчетливее на лице его виднелась презрительная усмешка) человеком.
«Ну так что же, хозяин, спускайся с крыльца, потолкуем», — сказал отец.
«А чего толковать?»
«Порядимся, может, и сойдемся в цене».
«Давай-ка иди подальше, дом пока еще мой, сколь хочу, столь и возьму. Есть деньги, клади, нет — ступай, ищи по карману. Все».
«Да что же так-то?»
«Все!»
Мы купили другой дом, похуже, у пожилой одинокой женщины, которая уезжала куда-то на стройку, в какой-то «барак али еще что», куда приглашал ее сын; отец долго ходил вокруг избы, так же как и пятистенник, обстукивая ее, разглядывал никогда не знавшие краски и, казалось, посиневшие от времени оконные рамы и ставни и потом, вечером, за лампою, подсчитывал, что придется заменять и обновлять и во что это обойдется, а я с полатей, куда уложили меня, смотрел на его склоненную над столом и клочком бумаги голову. В сознании моем возникал теперь и этот вечер, и все последующее, как перевозили и устанавливали дом, и особенно то, каким виноватым чувствовал себя отец перед матерью, когда наконец обрисовались контуры купленной им, как определила мать, халупы, и я испытывал теперь запоздалую боль за отца и снова и снова как бы видел перед собою оставшегося там, на ступеньках крыльца, сухощавого и злого хозяина пятистенника. «Все с него... конечно же, какой тут может быть разговор!» — уже с ненавистью восклицал я, и как бы сама собою прочерчивалась линия от того хозяина к Моштакову через сенной базар и вещевой рынок, через всех памятных мне мужичков — «мучное брюшко», с которыми сталкивала жизнь, и еще с десятками разных людей: и в техникуме, и среди знакомых нашей семьи, среди соседей, в которых так или иначе я видел хитрость и ненавистное мне зло; все они как будто выстроились, и в самом конце, венчая строй, возвышался над всеми, как тот пятистенник, Моштаков со своими хлебными ларями; рядом же с ним были и Федор Федорович и Андрей Николаевич. Я понимаю, что смешно и нелепо так представлять все, но в том состоянии, в каком находился я, в той горячности, какая охватывала меня, все казалось верным. Да иначе и не могло быть. «Вот они, — говорил я себе самые обыкновенные и самые, наверное, заезженные, но для меня, несомненно, звучавшие как откровение слова, — паразиты на теле человечества».
За спиною все так же было тихо и так же ярко горела керосиновая лампа; но, может, мне только казалось, что было тихо? Во всяком случае, до появления Игната Исаича, до той минуты, когда он, шумно войдя в комнату, воскликнул: «Это кого еще к нам на ночь глядя!» — ничто не прерывало моих размышлений; я не только думал о Моштакове и не только видел перед собою зло; оно было лишь по одну сторону борозды, тогда как по другую тоже лежал мир. Он, этот мир доброты и человечности, как бы заслонял все и начинался для меня также в Старохолмове; память опять уводила к тем местам и тем дням, когда мы перевозили из деревни в город купленный дом. Отец подрядил трех чувашей-единоличников, и я напросился ездить с ними сопровождающим — от Старохолмова до города и обратно. Я мог бы, кажется, часами рассказывать о том, что и как они делали, как размечали венцы, оставляя топором зарубки на каждом бревне, как наваливали эти бревна на разобранные и раздвинутые телеги и увязывали веревками и цепями, как медлительно будто и вместе с тем споро подвигалась работа, но все это было лишь внешней и привлекательной стороною, тогда как главное, что поразило меня и что оставило неизгладимый след на душе, была неиссякаемая и, казалось, жившая даже в складках их простоватой холщовой одежды доброта. Не то чтобы они были ласковы ко мне, что ли, нет, для них было равно все: и я, и свои лошади, которых они считали кормилицами, и бревна, которые поднимали, и трава, и дорога, и небо, и лес, на опушке которого обычно останавливались, чтобы покормить лошадей, — все было для них как бы одухотворенным, живым, требовавшим уважения, и они отдавали уважение с той естественностью и простотою, что нельзя было не удивляться, глядя на них. И я удивлялся, не так, конечно, как сейчас, не рассуждая столь въедчиво, вернее, вовсе не рассуждая, а лишь чувствуя всей детской душою доброту этих людей, и сам оттого, мне кажется, становясь добрее и ласковее. А ведь ничего особенного как будто и не было; просто перед тем, как отправляться в дорогу, когда бревна бывали уже увязаны на телегах, мужики присаживались на обочине, закуривали, передавая кисет из рук в руки, и начинали почти каждый раз один и тот же разговор: какую из лошадей пускать передом?
«Ну? — спрашивал обычно самый старший из мужиков, шевеля густыми и светлыми, словно покрытыми дорожной пылью усами. И лошаденка у него была чалая, будто под цвет усов. Она казалась крупнее двух других, выглядела более справной, и хозяин-чуваш не без заметной гордости поглядывал на нее. Но он не хотел обижать напарников и потому, обращаясь то к одному, то к другому, продолжал: — Как разумеем-будем?»
«Оно можно бы и мою, Митрив-то вывозили, так передо шла», — вставлял первый.
«Можно-ть и мою, — вмешивался в разговор второй, — но только твоя, Тимофей (так звали чуваша со светлыми усами), на овсе нынче, и шаг должен быть покрепше, а путь — эвона!»
«Овес-то, да-а...»
«Надо пускать чалую».
«А ты как?»
«Чалую».
«Ну так что, порешили?»
«Да».
«Тогда с богом», — завершал разговор Тимофей и, поднявшись, не спеша направлялся к своей лошади, брал ее под уздцы и выводил в голову небольшого, три подводы, обоза.