Василь Земляк - Зеленые млыны
— Тихо! — Киндзя вдруг замер. — Слышите?
— Мотоциклы трещат…
— Нет, нет… — Киндзя привык слушать свою мель ницу, умел различать в гуле паровика тончайшие оттенки. И тут его слух сразу выхватил из треска удалявшихся мотоциклов что-то другое. — Вроде кто то крик нул на пруду.
— Может, из них кто? — Паня оглянулась на убитых.
— Тут все… — Чорновух снял фуражку. Снял свою и Киндзя.
Все трое вслушивались. Мягко падали листья с орехов.
— Может, показалось… — проговорил Киндзя.
— Может быть. После такой ночи… Похороним их тут, на горе. На солнце. Так, Киндзя? Не сбрасывать же в колодец, как приказано.
— Документы были при них?
— Ничего. Рация и чистая бумага. Несколько тоненьких брошюрок о кооперации.
— При чем тут кооперация? Она то к чему?
— Спроси что полегче… Должно быть, кто то из них разбирался в этом.
— Может, лавочник? — Гелий Микитович?
— Какой парашют выдержит нашего Гелия Мики товича?
— И то правда. Для него и двух парашютов мало.
— А война съедает вес… — сказал Киндзя.
— Клади, Киндзя, парашюты на полок, а мы с Паней выберем для ребят место. — И Пане: — Твой был сад, ты и место хорошее подыщи. Пошли.
Когда отошли, Чорновух скороговоркой зашептал:
— Леший его знает, можно доверять Киндзе или нет? Уж не в монахе ли сидит десятый?
Паня остановилась.
— Когда меня везли сюда, там вроде кашлянул кто то… Меня так в жар и кинуло. А ну как услыхали бы немцы…
— Они в касках. Глухие, Не останавливайся. Иди, как идешь. Я тоже слышал, как ехал с Киндзей сюда. Стон слышал. Киндзя еще спрашивает: «Ты ничего не слыхал?» — «Нет, говорю, ничего…» — «Ну и хорошо. Это мне почудилось». А мне не почудилось… Стон…
— Это Микола… Я почувствовала, что он тут. Еще с вечера почувствовала. И такая тяжесть на душе. А тут еще «скрипач» ввалился. Ну, думаю себе, это мое горе пришло…
— Какой скрипач? Сильвестр?
— Да нет, тот, ихний. Злой Иоахим…
— Больше не придет… Его еще вечером насмерть… Снайпер. Так как с Киндзей? Признаться ему или пусть везет парашюты в клуб?.. Ну, вот здесь хорошее место. Под этой грушей. Это спасовка?
— Это красная девица.
— Я спрашиваю, как быть с Киндзей? Не хотелось бы, чтоб он знал по монаха…
— Почему?
— У Киндзи мельница…
— Ну и что?..
— Выдаст он твоего Миколу или кто там окажется… И получит мельницу. Я этот Мельницкий дух насквозь чую. А, пошел он! Пусть везет парашюты! Верно?
Пане стало страшно от этих слов, страшно за Киндзю. Неужто Аристид стал таким? За какой нибудь месяц. Но она сказала: «Пусть везет…»
— Пошли. Как голову держишь? Ты, пятисотница… Киндзя уже уложил парашюты. Он хотел захватить
и Паню, но Чорновух и тут сообразил. Страшно, мол, ему одному оставаться с мертвыми. Киндзя пусть не мешкает, а сразу же возвращается с людьми и с инструментом, место выбрали сухое, высокое, а могилу надо копать большую. И еще он предупредил Киндзю насчет парашютов.
— Десять есть, десять и сдай. Немцы — люди точные. Пересчитают… А шелк хороший, платки были бы вечные. А, Паня?
«И вот на такой паутине они спускались», — подумала Паня. Киндзя испытующе посмотрел на нее и уехал. Его подвода затарахтела с горы и затихла у пруда. Уж не заехал ли он туда напоить лошадь? Так и есть. Послышался посвист, это Киндзя поит коня. А тут налетел ветерок, волосы на траве ожили, у Пани было такое ощущение, что вот сейчас все встанут и спросят: «А куда ж Микола подевался?» Киндзя все не выезжает и не выезжает на запруду, словно решил дольше помучить Паню. Да и у Хомы лопнуло терпение.
— Что это он? Вот гад, догадался…
Они побежали вниз по тропке, потом по берегу пруда и увидели: подвода в загоне, где поят лошадей, на запруде стоят сапоги, лежит одежда, а Киндзя в исподних лезет к монаху. Пока Чорновух разулся, Паня прямо в платье была уже там. Лошадь сама вышла на запруду и остановилась возле сапог. Стала, как на часах…
— Кто? — спросил Чорновух с запруды. Он вспомнил, что не умеет плавать, и так и стоял там без сапог. — Твой? — спросил он у Пани.
— Лель Лелькович…
— Живой?
— Вроде живой…
Его вытащили, уложили на голубой шелк и прикрыли, может, его же парашютом. Шелк весь в череде и на гимнастерке череда. За поясом — нож, каким режут стропы. Чорновух вынул его из ножен, швырнул в пруд — все же меньше улик. Паня расплакалась. Чорновух цыкнул на нее: «Проклятые лемки, только и плачут всю жизнь. Ты когда-нибудь видела, чтоб немцы плакали?» Паня вспомнила белую черешню, под которую любил приходить Лель Лелькович, когда ее кондуктор (тогда еще не главный) отправлялся на товарном в очередной рейс. Товарные ходят далеко, за тридевять земель, сколько раз бывало, что черешня и поспевала и отходила без Миколы…
Лошадью правил Аристид Киндзя и, не въезжая в село, повернул на мельницу. «Ну, что я говорил?» — шепнул Хома Пане. Раненого внесли на чердак, и только после этого Аристид повез немцам парашюты. Часовой не пропустил Киндзю в клуб. Приехал на дрезине какой то высокий чин, и они разбирали там операцию. Из клуба долетал крик, почти истерический. Киндзя подумал, что такой крикливый народ не сможет победить. Часовой пересчитал парашюты, на одном была кровь, и он хотел уже было отдать его Киндзе, но, поколебавшись, бросил в общую кучу.
Лель Лелькович выходил из окружения последним, он пробирался сквозь заросли у пруда, и тут на рассвете предстал перед ним монах, тихо пропускавший воду. На горе окружившие сад немцы все еще кричали: «Рус, сдавайся!» — хотя сдаваться там уже было некому. А здесь тишина и этот печальный монах, такой знакомый Лелю Лельковичу. Вода уже совсем ледяная, а в нем тепло, даже уютно; не промокни спички, можно бы даже и закурить. Потом немцы принялись прочесывать сад, а он стоял себе в монахе у самой запруды (в том то и спасение, что монах у самой запруды, думал он), струя шла несильная, верхняя, вода в ней была гораздо теплее, чем в пруду (он пробовал рукой). Так он и стоял, по запруде одна за другой тарахтели машины, мотоциклы, то в село, то из села, они его не трогали, и он их не трогал. И тут из мотоцикла, мчавшегося полным ходом через запруду, — автоматная очередь по монаху, глупая, внезапная, а возможно, и просто случайная. Какой то бравый немчик развлекся, решил поиздеваться над этим печальным монахом на радостях, что сам жив, что бой уже позади… Потом мимо умирающего Леля Лельковича прокатился по запруде воз… Из села. Должно быть, из села. «Непревзойденно так, — подтвердил Аристид Киндзя. — Мы везли последний воз подушек для раненых. Чтоб им на них сгнить!» Лель Лелькович улыбнулся сквозь боль. Он сказал Кин дзе, что там, в саду, в дупле красной девицы он спрятал винтовку с оптическим прицелом. «Если умру, глядите, чтоб не пропала винтовка…» — «Непревзойденно!»— согласился Киндзя, хотя знал уже, что немцы нашли ее. Посветили в дупло фонариком, а она там. Какое то у них странное пристрастие к свету, боятся нашей ночи, и Лель Лелькович всю эту ночь охотился на фонарики. Ведь убитые не могут предостеречь живых.
Теперь, истинно по немецки, строем, перед клубом стоят белые кресты (Лелю Лельковичу они видны из окошка), выстроились в палисаднике среди буйных, как никогда, георгинов. Георгинам то откуда знать, что это захватчики, — растут себе, да и все! На крестах каски, со временем они перекочуют во дворы, и лемки будут поить из них индюков и кур, но это потом, а пока что стальные изделия Круппа свидетельствуют о тщетности чьих бы то ни было попыток уберечься от смерти на этой войне. Пробоины, зияющие в касках, свидетельствуют о том, что их недавним владельцам довелось иметь дело со снайпером. Одна единственная дырка в шлеме капитана (там, где лоб) оказалась для него смертельной.
Так опочил Иоахим Веймарскинд (дитя Веймара?), личный номер 0 00. Сильвестру, как бывшему бухгалтеру, ничего не стоило запомнить этот номер, который до сих пор был тайной для него, а теперь давал определенное представление о вражеской армии (Сильвестр не знал, что все эти номера, перекочевавшие с шей на кресты, не более чем шифр и не имеют никакой разведывательной ценности). Сильвестра вызвали на панихиду, он играл Баха, а закончив, перешел на веселые лемковские мелодии (также, впрочем, похоронные), но это было неправильно истолковано фельдфебелем и едва не стоило скрипачу жизни. После похорон Сильвестр пошел на мельницу, к «десятому», чтобы сообщить некоторые тайны о германской армии (прежде всего — личный номер Веймарскинда) и поиграть ему на скрипке, а немцы тем временем справляли поминки, пили тывровское пиво, привезенное накануне еще самим Вей марскиндом, и всю ночь бегали в палисадник, хотя и не так свободно, как раньше, — остерегались «десятого». На похоронах фельдфебель поклялся перед погибшими непременно поймать «десятого», ведь должен же тот рано или поздно объявиться в Зеленых Млынах, или, как сказал фельдфебель, kommen nach Hause. Я, пробираясь в Зеленые Млыны, чтобы разыскать «десятого», придерживался той же мысли: он непременно придет домой, какой же лемк даже под угрозой смерти обойдет свою хату?

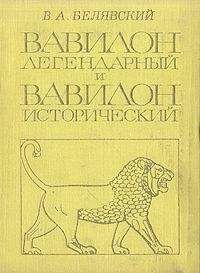


![Сэмюэль Дилэни - Вавилон - 17 [Вавилон - 17. Нова. Падение башен]](/uploads/posts/books/54853/54853.jpg)