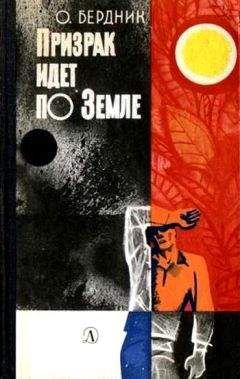Юрий Теплов - Второй вариант
— Здравствуй, — ответил я.
Она была не такой, какой помнилась. И даже не потому, что на ней были незнакомые мне серое пальто и шапка из серого каракуля. Она изменилась в чем-то другом, пока для меня неясном.
— Почему ты замужем?
Она взяла меня под руку:
— Уйдем отсюда.
Было светло. Потом зажглись фонари. Потом ей стало холодно.
— Хочешь, пойдем к нам? — предложил я.
Возле дома она заколебалась.
— Я боюсь твоей мамы. По-моему, она всегда не любила меня...
Мать даже вида не подала, что удивилась. Хотя я уловил, как тревожно метнулись вверх ее брови и тут же сдвинулись к переносице.
— Проходите, проходите... Я сейчас.
Засуетилась, стала собирать на стол. А когда сели за самовар, уронила на колени руки, сказала:
— Вы уж извиняйте, Дина. Не готовая я к гостям оказалась...
Дина с любопытством разглядывала фототарелку на стене. Мать заказала ее с моей первой лейтенантской фотографии. Снимок был раскрашен самыми несусветными цветами.
— Похож? — спросила ее мать.
— Нет.
— Похож, — сказала убежденно и праведно.
Дина порозовела и даже стала улыбаться. После ужина вызвалась перемыть посуду, но мать не дала. Она долго не возвращалась с кухни, видимо, чтобы не мешать нам. Потом робко прошла в комнату, присела на краешек кровати. Дина почувствовала себя неловко, сказала:
— Мне пора.
Мы вышли в прихожую — узенький коридорчик, где двоим уже не развернуться. Я попросил:
— Останься.
Она покорно повесила, уже снятое с вешалки пальто. Мы прошли в кухню и встали там у окна. Я спросил:
— А что скажешь ему?
— Теперь все равно.
Город гасил огни. Постепенно темнели и окна напротив. Только в одном все металась и металась: по комнате женщина...
Я пытался представить, как все могло случиться. С трудом вспоминал ее слова там, в сквере, и позже, когда мы ходили по улицам и переулкам и зашли погреться в незнакомый подъезд. Она несколько раз начинала говорить о родителях, но как-то все сбивчиво и через силу. Но все же что-то выстроилось в моем сознании. Вроде бы они предостерегали ее: «Он младше тебя на год. А для женщины это существенная разница». «Зачем ты учишься в университете? Офицерши все равно не работают. Им некогда и негде работать»...
Потом была вечеринка на старой даче с камином. Он приехал позже всех — веселый и остроумный, взял в руки все застолье и покорил всех...
— Боже мой, все не то, — сказала в том, чужом, подъезде Дина, — не то, не то! — и продолжала; отвернувшись: — Дальше все покатилось, как с горы: И остановиться хочу, а не могу. Знаю, что надо остановиться, и нет сил. Очнулась — муж, квартира. И твои телеграммы. Братишка через день приносил их. Читай, говорит. Он всегда был за тебя... Я хотела уехать. Муж понимал все. Однажды сказал: «Кажется, мы допустили ошибку. Я не знал, что у вас серьезное чувство». Потом спросил, и даже не спросил, а сказал, что я хочу убежать к тебе. «А что из этого выйдет? Вы дружили больше трех лет, думаешь, он простит? »
Это я, значит, прощу или нет. Разве дело в «прощу»? Разве можно думать об этом, когда она стоит рядом, когда спокойно, грустно и сладко — все вместе? И бедненькая моя мама притихла в комнате, не зная, о чем и думать.
Я взглянул на Дину и увидел, что она плачет. Лицо спокойно, а слезы катятся. Странно так, с полуулыбкой на губах. Придвинулась ко мне, сцепила пальцами мои пальцы.
— Лень, ты помнишь? Мы вот так же стояли у окна. А прямо перед окном — папина рябина. За ней горели две лампочки. И ты сказал: «Дерево с глазами». Потом их сторож выключил, а ты: «Дерево спать захотело». Помнишь?
— Не помню.
— Это было у нас на даче.
Не дерево, а ту ночь на даче во время моего курсантского отпуска я помнил. Мы остались тогда одни в огромном пустом доме. И спали на одной кровати. Перед тем как погасить свет, она подошла ко мне и шепотом сказала:
— Все будет хорошо, да? Ты ведь можешь подождать? Мы должны подождать.
Наверное, ждать было не надо. Но мне только исполнилось девятнадцать, и я ничего не соображал в житейских хитростях. Мы всю ночь пролежали рядом. Я боялся ее целовать, потому что мы остались одни и было темно. И она сказала под утро, что всю жизнь будет любить только меня...
— Леня! — Меня позвала в комнату мать. Зашептала: — Может, вам вместе стелить? Я ведь ничего не знаю про вас.
Вернулся к ней.
— Дина!
— Что, Лень?
— Ты поедешь со мной?
— Поеду.
— Через четыре дня?
— Да.
Она отвечала так, будто все разумелось само собой и никаких неясностей не предвиделось. И я воспринял ее согласие как должное. Другой ответ и не мыслился, да и не могло его быть в ту ночь, другого ответа.
— Маманя постелила нам, — сказал я.
— Как ты скажешь, Ленечка. Только не надо, Ленечка, если любишь...
Мы так и простояли до света на кухне. Я звал ее спать и обещал слушаться. Она качала головой: «Нет, не получится...» Утром я отвез ее к родителям. Вместе с ней пошел в их квартиру. Открыла ее красивая мама, молча и настороженно пустила нас. Сказала, что Марсель только что ушел.
Понял: муж...
Я стоял в прихожей почти по стойке «смирно». С сапог натекло на ковровую дорожку. Я чуть сдвинулся. Дина стояла рядом со мной и тоже не раздевалась. Ее мать, не сводя с нас горестного взгляда, тяжело опустилась в кресло.
— Мы с Диной решили пожениться! — громко объявил я. — Через четыре дня уезжаем.
— О-ох! — вслух вздохнула мать. И тут же из дальней комнаты вышел отец.
— Для этого ей еще нужно развестись с мужем, молодой человек! — сказал недовольно и увещевающе. — Иначе у вас будет не женитьба, а сожительство.
— Позвони мне потом, — тихонько произнесла Дина. — Я тут сама...
До обеда я кружился по городу. Без цели, с одной лишь мыслью, что жизнь прекрасна и удивительна. Весеннее солнце светило вовсю, отражаясь в разноцветных витринах. Пестрели афиши. Плакаты призывали страховать имущество. А мне нечего было страховать! Разве что свой картонный чемодан! Даже весело стало оттого, что я так свободен от шкафов и диванов. Правда, теперь придется купить кровать, на которую у меня даже не было денег. Зачем покупать? Попрошу на складе КЭЧ солдатскую...
Мысли будоражили, обгоняли одна другую... Надо же такое сказать: «Простит или нет?» Вот уж ерунда!.. Человек-то тот же самый!.. Кружился по знакомым и незнакомым улицам, а пришел в конце концов туда, куда надо, — на вокзал.
Отстояв очередь в воинскую кассу, взял два билета. Два маленьких бумажных листочка, в которых заключена была дальняя дорога без казенного дома, дорога в новую, казавшуюся в тот час розовой, жизнь. Бережно спрятал билеты во внутренний карман и, пока искал телефонную будку, ощущал их как нечто весомое.
— Мне Дину! — весело прокричал я в трубку.
— Такая здесь не живет. — И короткий щелчок на том конце провода.
Сперва я ничего не понял. Неужели ошибся, набирая номер телефона? Снова позвонил, вежливо и уже настороженно. Узнал голос матери:
— Она здесь не живет.
— Как — не живет? — недоверчиво и возмущенно переспросил я, но трубку уже повесили, не удостоив объяснением.
Звонил еще трижды, но каждый раз натыкался на короткие гудки. Какой сегодня день? Вторник? Среда? Может, она на занятиях? Побежал в университет и узнал, что на этот год у нее академический отпуск.
Ничего не оставалось, как пойти к ним домой. Даже если Дина и не живет с родителями, то хоть узнаю ее адрес. И пойду по этому адресу! И пусть придется объясняться с мужем, он меня обокрал, а не я его!
Позвонил в дверь без раздумий, готовый, если не пустят за порог, прорваться силой. Но открыла она сама.
— Я знала, что это ты, — произнесла одними губами, еле слышно, каким-то старушечьим голосом.
Мы стояли — лицо в лицо; глаза у нее были покрасневшие — наверное, плакала. Покрасневшие и неживые. Долго и застывше глядела на меня. Затем сказала:
— Я не поеду с тобой, Леня. Ну, не смотри так, пожалуйста... Уходи, пожалуйста! Ты ничего не понимаешь.
Я действительно ничего не понимал. Было лишь ясно, что она уходит от меня. И теперь уже навсегда. Теперь уже есть на конце точка, после которой все начинается с новой строки. Грубые слова рвались наружу, но застревали. Стреноженные мысли толкались на одном пятачке. Лихорадочно шарил во внутреннем кармане и никак не мог нащупать билеты. И теперь уже сам боялся взглянуть на нее, словно был в чем-то виноват.
И только когда протянул билет, увидел ее лицо, совсем, не похожее на вчерашнее, — белое и неподвижное, с поджатыми губами. А глаз не увидел.
— Возьми, — сказал, — на память!
...На вокзале меня никто не провожал. Даже маманю, как она ни рвалась, уговорил остаться дома. Не хотел, чтобы она расстраивалась. Да и вообще, не люблю, когда стоят у вагона и ждут отправления поезда. То ли дело, когда встречают. Бывает; что и цветы преподнесут. Кто-нибудь схватит твой чемодан, и ты идешь налегке, с одним букетом... Чего вдруг букет влез в голову? Странное все же существо человек. Какая бы горечь ни давила, все равно нет-нет да и мелькнет самая отвлеченная мыслишка, такая, что впору оглядеться, не напустил ли кто. А без этого, наверное, человек стал бы совсем беззащитным. Проводница заговорщически улыбнулась, сказала: