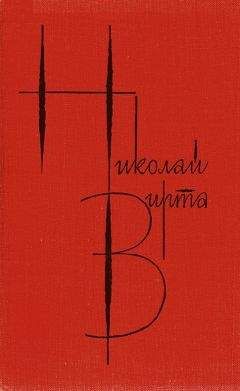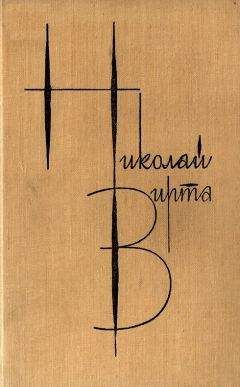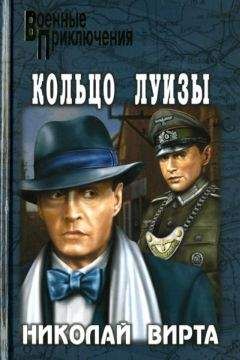Николай Вирта - Одиночество
Он обнял ее, целовал, перебирал ее волосы, как прежде, как в те далекие, счастливые дни. И она утихла, перестала дрожать.
— Мне сказали, мне Сторожев сказал, ты другую нашел, коммунистку, — зарыдала вдруг она и снова повалилась на солому.
— Молчи, молчи, — шептал ей Лешка, — молчи!
Она прижалась к нему, рассказала, как жгли ее горечь, обида, злоба, как медленно тянулись дни и ночи и стал ненавистным тот, что бьется под сердцем, как вчера зашел такой же молодой, как Лешка, красноармеец, как она напустила в избу угару, и, сонный, он едва не задохнулся.
— Тебя я вспоминала… Это они свернули тебя, они сбили, они жизнь мою сделали проклятой… Будь их пять, пятерых бы удушила…
— Молчи, молчи, молчи, — шептал Лешка, — молчи!
— Ты останешься со мной, да? — говорила она, словно в бреду. — Ты убежал от них, да? Ты увезешь меня отсюда? За мной придут! Лешка, вот идут за мной, — и глаза ее делались безумными, она металась, стонала и скрипела зубами.
Потом Наташа успокаивалась, забывала обо всем, страстью дышали ее поцелуи, ее объятия, она клала руку его к себе на живот, и он слушал биение новой жизни.
Наконец заснула, всхлипывая во сне, вздрагивая и что-то бормоча.
Лешка смотрел на нее и плакал; горячие слезы катились сами собой, падали на солому. Плакал Лешка о загубленной любви, думалось ему: никогда он не сможет забыть, никогда не простит Наташу. Вот-вот примчатся за ней, возьмут ее, все узнают, какова невеста его, жена его, пальцами будут тыкать, гневом нальются глаза товарищей.
«Но кто же виноват в этом несчастье, — раздумывал Лешка, — кто накликал на ее голову эту злую беду, кто ответчик за Наташу? Не я ли расхваливал ей антоновскую правду и бросил, не рассказав правды другой, настоящей, которой живу теперь?.. Не я ли подарил жизнь Сторожеву затем, чтобы тот погубил жизнь мою и Наташи?»
Наташа спала. Прижимая ее к себе, Лешка просидел в омете всю ночь, пока не приехал Сергей Иванович.
Утром Наташа снова забилась в припадке. Через неделю она родила сына.
Глава шестая
Третью неделю бродил Сторожев по кустам и перелескам, в лощинах и буераках проводил дни и коротал мгновенные летние ночи.
Взметывались зарницы, и вселенная несла свои миры, а он сидел у костра, и пусто было в его сердце.
Лошадь тяжело ступает, мерно жует траву. Где-то очень далеко лает собака. Месяц шлет на землю холодный свет.
И тихо кругом… Будто и не было боев, не полыхали пожары, будто давным-давно мир объял землю.
Иногда Петр Иванович подкрадывался к селам и деревням — там прочно сидели красные; долго вглядывался в мрак, разглядывал, что за жизнь за этим глубоким молчанием, за этой тьмой. Ползком, в злобной решимости, подбирался он к селам, и вот вздымалось сухое пламя, ревел набат, гремели выстрелы.
А завтра — снова отчаяние, и мягкий ветер шумит в говорливых листьях осины.
Как-то днем он поил лошадь, и в тихом отстое воды, как в зеркале, увидел себя, худого, небритого. Седые волосы искрились на висках и ползли ниже.
«Волк, — подумал он про себя, — старею».
И правда: постарел Сторожев за эти недели. Ввалились щеки, глаза ушли глубоко под брови и сверкали оттуда злыми огнями. Питался он сухарями, но редко приносили сыновья еду в условные места. Соскучившись по молоку, он однажды подошел к стаду; глухонемой пастух забормотал, залотошил, замахал руками. Вспыхнув, Сторожев избил его нагайкой, выбрал корову и до отвала напился свежего молока.
Уже наливались соками желтые дни, а он все бродил вокруг родного села.
По кустам, по оврагам и брошенным далеким полям прятались такие же, как Сторожев, люди из разбитых полков. Он находил их следы: костры, объедки, патроны, дырявые портянки… Но никак не мог встретить хотя бы одного: мучительно искал и не находил.
Так шли длинные, молчаливые, жаркие дни.
Ночами не спалось Сторожеву. Вспоминались отнятые земли у Лебяжьего, цветущая усадьба, разбитые мечты. Копилась в сердце бесплодная ярость, и тогда костер не мог пробить черной стены, возведенной тоской и мраком.
Как-то ночью Петр Иванович совсем близко подъехал к родному селу. Не хватило сил, не совладал разум с желанием; он бросил в кустах лошадь и тихо, зверем, пробирался тропами и межами, лежал, вытянувшись струной, слушал шорохи ночи.
Обжигая руки и лицо крапивой, жирно цветущим красноголовым татарником, открыв широко глаза, извиваясь, полз Сторожев.
Около риги, где летом ночевала его жена с маленьким Колькой, он наткнулся на мохнатое тело — это была собака. Разбуженная человеком, она зарычала, Петр Иванович задушил ее.
Разум, потрясенный этой схваткой, заколебался.
Сторожев чуть было не упал, тошнота подступила к горлу. Но нет, он очнулся, сердце забилось быстрее, каждая клетка его существа жаждала борьбы и жизни, а упасть — значило погибнуть.
Он дрожащими руками провел по волосам и, открыв ворота риги, прошел в угол, где в санях была устроена постель.
Положив на рот Прасковьи ладонь, он разбудил ее.
— Я это. Молчи. Не могу. Сил больше нет, Параша, тоска…
Он уронил ей на грудь голову, и долго без слов они рыдали, прижавшись друг к другу.
2Он ушел далеко от села, забрел в Волхонщинский лес, нашел землянку, заглянул в нее. Там, лицом вниз, раскинув ноги и нелепо подогнув руки, лежал человек. Около виска застыл сгусток крови, и клубились вокруг бурые черви.
Сторожев осторожно повернул голову и содрогнулся, узнав Григория Наумовича Плужникова — «батьку» повстанья.
Труп был свежий, еще не тронутый тленом.
Внезапно сгорбившись, точно придавленный непосильной ношей, Сторожев сел на лошадь и поехал не оборачиваясь.
Кобыла шла через лощины и поля, обходя далеко села и деревни, инстинктом угадывая, что там — смерть.
Теперь каждую ночь пылали в селах пожары. Мимо часовых тенью пробирался Петр Иванович к избам коммунистов, к складам, к Советам и кооперативам, стрелял из мрака и, спрятавшись где-нибудь на холме, наблюдал, как постепенно, точно остывая, утихала паника.
Он мстил за «батьку», хотя никогда не любил его.
Под Сампуром, связав обходчика и завладев его инструментом, Сторожев разобрал железнодорожный путь и видел, как в яростном безумии лезли друг на друга вагоны и высоко в небо летели искры пожара.
Но все сумрачнее становился его взгляд, и огонь тух в глазах. И все так же и глухо и пустынно было кругом. Не находились товарищи, рассеянные по лесам и оврагам, — убиты ли они, взяты ли с оружием в руках, или сдались красным?
«Нет, не то, — думал он, — не так…»
Новые поезда пойдут завтра, новые избы вырастут рядом с сожженными.
И глухо молчат села — не поймешь, за кого они, с кем, почему не поднимаются против коммунистов? Где командиры восстания, где Антонов? Куда спрятался? Чего ждет?
«Иль навсегда отзвучали набаты? — думал Сторожев. — Или не поскачут больше кони по лугам и полям? Неужто мир навсегда пришел в села и деревни, кончилась война? Неужели в чужих руках останутся земли у Лебяжьего озера?»
Ночи напролет искал он ответа и не находил. И чувствовал: все теснее сжимается вокруг него невидимое кольцо, все меньше становится вольных полей и лощин.
Стал Сторожев мнителен, подозрителен, ночами сидел он, вслушиваясь в шумы мира, и не мог заснуть.
Глава седьмая
Однажды он очнулся поздно, было уже совсем светло. Свежее росистое, раздольное утро встречало суховейный знойный день.
Далеко к синему горизонту катились волны зеленей, солнце всходило в блеске проснувшегося мира, обвеянного прохладой ночи, увлажненного росой.
По меже, раскачиваясь в седле, ехал человек в буденовке. Он держал на коленях винтовку и пел:
Эх, в Таганроге, эх, да в Таганроге,
В Таганроге солучилася беда…
Песня катилась вслед зеленым волнам, она догоняла, обгоняла их и неслась к солнцу.
Эх, там убили, эх, там убили,
Там убили молодого казака…
Человеку в буденовке улыбалось солнце. Ветерок еле-еле шевелил клок белых волос, выбившихся из-под шапки; лошадь шла весело, срывала придорожную траву и, сытая, словно играя, мяла ее в зубах.
Эх, принакрыли, эх, принакрыли,
Принакрыли тонким белым полотном…
Песню пел человек, которому было легко и весело в это радостное утро, — у него впереди было много таких же сияющих солнечных дней, и, радуясь им, он пел:
Эх, схоронили, эх, схоронили,
Схоронили под ракитовым кустом…
В утреннем сиянии грянул выстрел.
Человек, словно нехотя, сполз с лошади. Конь шарахнулся и скрылся, вздымая пыль.