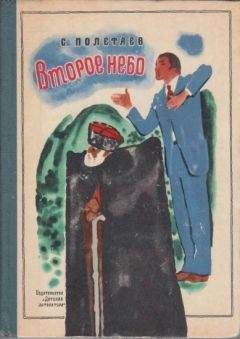Виктор Шкловский - О теории прозы
Вот это и есть подлинная роль, подлинный образ искусства.
А связка таких золотых колец – это история искусства.
Что такое теория прозы – спрошу у себя в который раз.
Это листы, которые лежат на столе, прежде всего на них пишут карандашом. Не забывайте, что слово старее записи, слово старее стихов. Рифмы помогали запоминать, рифмы в первое время помогали продумывать и соединять далеко отстоящие друг от друга ряды.
Так, с большим умением писал Ломоносов, создатель новой культуры.
Античные времена городов-государств, времена молодых Афин любили отточенную, понятную, красивую речь. Поэтому и истцы, люди, приходящие с жалобами, и обвиняемые готовили речи и готовили их с писателями, специалистами. Имена таких писателей сохранились и поныне. Потом речь записывалась, заучивалась и произносилась. Начиналось часто с того, что человек говорил о своей непривычке к поэтической речи.
Прозе необходимы подробности, неожиданности, потому что они увеличивают внимание. Проза родилась около костров – остановок в пустыне. Прозой говорили о необычайном, разговаривали усталые люди, и надо было сохранять внимание слушателя. Поэтому проза часто была интимной, часто сообщала о вещах непривычных.
Прозаическая фраза держится на сообщении. Она должна содержать в себе информацию. И так пошло, что начиналась она с упоминания, кто говорит и кому говорит.
Путешествие, остановки в дорогах, разговоры на палубах, разговоры в ожидании, когда же, наконец, придет корабль. Разговоры на пристанях, разговоры об умерших, восхваление их, прощание с ними, изменение отношения, разговоры о самом замечательном и самом страшном в жизни человека – все это темы прозы.
Тема прозы – это спор о том, кто виноват, и о том, где можно найти доктора, который вылечит болезни.
Проза любит неожиданности. Она сообщает то, что удерживает людей у костра, заставляет их дослушать, дополнять.
Так, как ребенок держится за платье матери, а она утешает его, так держится за страницы книг и рукописи читатель.
И мы им, нашим друзьям, соседям, рассказываем, кого-то оправдываем, кого-то обвиняем. Или, спросив у идущего, куда он идет, досказываем, как надо идти.
Проза изменяет пути жизни. Проза говорит о необходимой смене жизни.
Пушкин писал в маленьких трагедиях:
Не бросил ли я все, что прежде знал,
Что так любил, чему так жарко верил,
И не пошел ли бодро вслед за ним,
Безропотно, как тот, кто заблуждался
И встречным послан в сторону иную?
Книги, как и люди, имеют свои судьбы.
Изречение это, как почти и все изречения, ложно. Ложно потому, что люди умирают, а книги нет.
Толпа книг как бы противоречива. Книги достигли бессмертия, мы достигли способов лечиться. Один из способов быть бессмертными книги получили, найдя способ пародирования. Когда книга пародирует книгу, они обе ощущаются. В конце приключений, иногда в сказках, возьмем «Конька-горбунка», герои бросаются в кипящее молоко и вылезают в новом издании – молодыми, добрыми. Люди этого делать не умеют.
Прошлое войны, оно пробило глубокие колеи во всех странах. Попал я от газеты, кажется от газеты «Труд», под Вязьму.
Город еще горел. Какие-то мужчины, средних лет, хозяйственные, доставляли волоком кровельные плиты с горящих домов соседней деревни, с домов, которые еще были целы.
Двое человек – мужчина и женщина – возились среди надписей о том, что еще не все мины опознаны и обезврежены. Мужчина, на которого я обратил внимание, переносил горящие доски. Он тер их об землю и об дерево, чтобы погасить, прервать огонь трением.
Женщина складывала, довольно спокойно, привычной клеткой еще теплые кирпичи.
Я уже бывал, хотя и не в первой колонне, в горящих деревнях. Видал деревни без крыш и стен. Остались только печи, и в русских печах, как в норах, сидели кошки и смотрели на улицу. Они были спокойны, они вернулись на старые места.
Кошки более преданны, чем собаки.
Кошки могли бы сидеть, охраняя свои пирамиды, если бы линии рождения сфинксов и кошек, линии смен эпох и времени, не нарушались, кажется, безнадежно.
Я спросил не то мужчину, не то женщину, – когда-то я был подрывником, – зачем вы это делаете, считаю, что вы неосторожны. Дайте нашим командам пройтись по тому, что когда-то было Вязьмой.
Женщина ответила:
– Потом трудно будет достать доски, сейчас их можно набрать на все полы.
Половые доски, сороковки, ценятся во все времена.
– А взрывы? – спросил я.
– Надо привыкать, – ответил мужчина, – но как хитрят немцы, покидая занятые позиции.
Дня через три у них будет материал для небольшого дома, хотя бревна трудно тушить.
Но тут есть речка. Мост взорван, вода бежит и тушит то, что еще не догорело.
Город Троя больше Вязьмы. Человек, узнавший греческий язык самостоятельно, прочитавший самостоятельно поэмы Гомера, наконец заработал деньги. Он приехал на развалины, но он не знал, что развалины стоят на развалинах. Он не знал, что было не то двенадцать, не то тринадцать разрушенных Трой. Они сменялись, как осенние листья у корней деревьев.
Он приехал на место, которое он знал – узнал. Он знал, что река впадает в море, а рек мало и жажда восстановит город.
Нашел клад среди обломков города. Наверно, он работал неправильно, раскапывая город, от которого осталось только имя.
Но надо верить в первую удачу и в первую смену.
Войны проходят с перерывами то на столетия, то на тысячелетия, но и Вавилон и даже Иерихон, о которых так хвастались в одной книге, были разрушены, и они должны быть освобождены от плена лет, от плена того, что называется культурным слоем.
Очевидно, что Шлиман был в головной колонне археологов. Он верил действительности своих снов, в способность своей постройки и, значит, верил в воскрешение городов.
Воскресают поэмы, воскресают дороги. Даже если города и царства, которые соединены были этими дорогами, если они исчезли, то кости тысячу раз погибающих лошадей, кости обозначают, что великие города существовали и по жилам дорог текла культура.
Так было в северном Иране.
Так остаются следы песен и поэм; они произносятся как сны, но и сны восстанавливаются. Восстанавливаются так, как восстанавливается звук погружаемых ведер в источник. Так остаются следы поэм. Остаются как тени дел.
Мифы многократно воскресали в драматургии.
И происшествия воскресали в романах, и этот посев был густ, был народен, был нашпигован происшествиями.
И Диккенс, и Достоевский, и французские писатели, не будем их перечислять, связаны были с газетами. Я бы их читал, если бы были такие газеты сейчас.
Но не только убийства, но и революции, смягченные происшествиями, становятся романами, чаще скрепками в романах, потому что сюжет требует возвращения рассматривания и открытия того, что как бы другими глазами другого автора видел раньше.
Искусство – как секретарь при человеке, занимающемся серьезными делами. Секретарь облекает эти дела в формы, более понятные для масс и начальства.
Когда описывается жизнь Дафниса и Хлои, их любовь легка, она снята с нетрудности быть такими, как все. Им надо объяснять, что такое любовь даже в техническом смысле. Они такие, как никто никогда не бывал.
Эта книга переплыла много рек и доплыла до наших берегов.
Там есть такая неприятная строка. Автор говорит про одну штуку, что она такой силы, что ее надо бы показать старикам. Она бы вернула им потенцию.
Искусство очень часто разоблачает жизнь.
Уплотняет жизнь.
Прессует ее.
Откапывает жизнь зарытую, чтобы она была совестью.
Не русский тот, сказал Некрасов, кто взглянет без стыда на эту, «кнутом истерзанную музу».
Толстого, казалось, не терзали.
А Пушкина? А Гоголя?
Эти кариатиды, которые поддерживали своды арок, ведущих к сердцу истории.
Когда Гоголь пишет о том, что редкая птица долетит до середины Днепра, то мы не думаем, что он лжет или хвастается. Он не хуже нас знал, что птицы перелетают даже океаны, чтобы вернуться туда, где они родились.
Гоголь, говоря об этом странном полете, сотрясает внимание читателя. Он раздвигает стены старого понимания.
Самсон попал в тюрьму, рассказав Далиле, что его сила заключается в волосах. Далила остригла его.
Но волосы растут даже в тюрьме. И Самсон услышал шорох растущих волос.
И, подойдя к стене тюрьмы или большого зала, где сидели его враги, он сказал: «Да погибнет душа моя вместе с филистимлянами!»
И обрушил свод.
Вот такими людьми литература занималась часто.
Причем своды падали на головы людей, остриженных «под ноль».
Стихи Пушкина, так часто похожие на признание и являющиеся признанием.
Стихи Маяковского, горечь которых мы не поняли.
Стихи Есенина и немногих недавно заново выявленных людей, например Высоцкого, не только зарифмованы.
Они проступили сквозь время как станция, как остановка в пути.