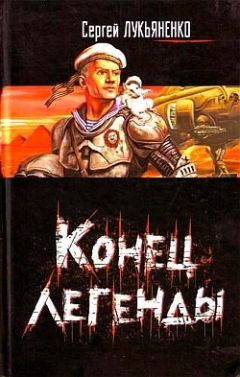Сергей Снегов - Река прокладывает русло
Минут через десять Лесков объявил сестре с глубоким убеждением:
— И ты его любишь, Юлька! Теперь я это ясно вижу. Если раньше на капельку сомневался, то сейчас нет.
— Ну, вот еще! — защищалась она, вспыхнув. — Я, конечно, к нему отношусь с уважением; он человек порядочный и умный.
Лесков стоял на своем:
— Любишь, Юлька! Он тебе с самого начала понравился, ты только обиделась, что он держался бирюком. Мне со стороны видней. И будешь с ним счастлива! Знаю это и заранее радуюсь за тебя. А еще больше радуюсь за него. Человеку повезло — нашел такую чудесную жену!
Она говорила растерянно:
— Ах, я ничего не понимаю — как с неба свалилось!. Все я могла подумать, только не это!..
Он продолжал убеждать:
— А теперь подумай и об этом. Помнишь, как ты огорчалась, что он и внимания на тебя не обращает? Ага, вот видишь, значит, ты этого хотела! Ну, как же не любишь?
А еще немного погодя Лесков втолкнул в комнату похорошевшую, смятенную Юлию и весело сказал Павлову.
— Принимай невесту, Николай, — из рук в руки!
Павлов потерянно вскочил со своего стула. Он судорожно схватил Юлию за руку, сказал хрипло: — Юлия Яковлевна, поверьте!..
Лесков командовал:
— Теперь поцелуйтесь! Правильно! Еще разок. Крепче! А сейчас потолкуем, как отпраздновать наш сговор. Через три минуты иду за вином и устрою шум на всю гостиницу.
Павлов испуганно попросил: — Не надо шума, Саня!
— Зверский шум! — кричал Лесков. — Вызову Пустыхина — пусть бьет стаканы! И Лубянского разыщу по телефону — чтобы произнес речь по всем правилам. И Шура — чтоб тряс космами! И Бачулина — чтоб вино в бокалах не просыхало. На снисхождение не надейтесь!
Юлия смеялась радости брата. Потом она ужаснулась и заметалась по комнате:
— Санечка, у нас не хватит еды на гостей. Я сейчас быстренько что-нибудь приготовлю, а ты купи консервов, сыру и хлеба.
Павлов, сдаваясь, сказал:
— Я пойду с тобой, Саня. Помогу нести покупки. Лескову показалось, что Павлов боится остаться с Юлией наедине, и он не стал спорить.
17
И эти три дня наконец кончились, как и все кончается, — бесконечные, бурные и трогательные дни. Лескова, рано пришедшего с работы, встретила уже одетая сестра. Они присели на койку, крепко обнялись и некоторое время молчали, обмениваясь теплом объятия, словно нежными словами. В немногие остающиеся часы нужно было собрать последние, самые важные мысли, высказать последние, самые важные пожелания. Лесков с испугом проговорил:
— Где Николай? Неужели он и сегодня пошел на работу?
Юлия успокоила брата:
— Нет, он еще вчера все закончил. Они с Бачулиным пошли за такси.
Лесков снова заговорил:
— Юлька, ты будешь мне писать? Обо всем: о себе, о Николае, о бабе-яге, как ты с ней ладишь. Ну, словом, обо всем!
Она шепнула, прижимаясь к нему:
— Обязательно буду! И ты пиши, Саня!
Потом она сказала с нежным упреком:
— И не будь скрытным. Ты обещал мне показать девушку, которая тебе нравится, и не показал. Так я и не узнала, кто затронул твое сердце.
Он ответил, улыбаясь:
— Мое сердце на месте, Юлечка. И эта девушка мне давно уже не нравится. Как говорится, вышла небольшая описка.
В дверь ввалились Бачулин с Павловым.
— Товарищи, что же вы прохлаждаетесь? — испуганно закричал Бачулин. — Самолет не будет вас ждать!
Ревниво не давая никому подойти к вещам, Бачулин схватил в обе руки три чемодана и потащил их вниз. В такси на начальственном месте — рядом с шофером — уже сидел Пустыхин, сзади поместился Шур. Пустыхин протянул обе руки Юлии и Павлову, шумно их приветствовал.
— Не торопитесь! — предупредил он шофера. — Дайте отъезжающим насладиться в последний разок видом заполярной природы.
Наслаждался видом, однако, он один. Юлия и Павлов даже не смотрели в окно. Юлия с ужасом припоминала, что забыла снабдить брата крайне нужными предписаниями и советами, без них он пропадет. Он утешил ее, что все это можно будет переслать по почте, до первого письма он продержится. Павлов слушал их шутливый спор молчаливо и серьезно. Бачулин вздыхал и горестно бормотал, что после отъезда Юлии негде теперь будет выпить в Черном Бору настоящего чая, это, несомненно, скажется на выполнении производственной программы местного пивного заводика. Шур держался лучше всех — он дружески улыбался молодым.
Все благоприятствовало отлету: погода, хорошее настроение летчиков, даже то, что в столовую аэропорта не привезли свежих продуктов, и только своевременная отправка машины гарантировала от неприятных записей в жалобной книге. Уже через час Юлия с Павловым поднимались по трапу в самолет. Лесков показал Павлову на Юлию, нежно улыбнулся, погладил себя по голове, потом сделал испуганное лицо и прочертил в воздухе зигзаг со стрелой. Это означало: люби Юлию, заботься о ней; а если случится какое-нибудь несчастье, немедленно телеграфируй — приеду. И Юлия, и Павлов поняли его знаки. Юлия послала поцелуй, а Павлов обнял ее и решительно закивал головой. Это означало: буду любить, буду заботиться, а несчастья не допущу, можешь быть уверен.
Когда самолет, ковыляя и подпрыгивая, как огромная неуклюжая птица, неторопливо пошел на взлетную дорожку, опечаленный Лесков сказал Пустыхину:
— Как много хорошего увозят они с собой!
Пустыхин ответил загадочно и весело:
— Немало хорошего еще возвратится назад!
18
Лесков направил Бахметьева — дядю Федю — на фабрику дежурным по автоматике: он числился теперь наладчиком. Дядя Федя собрал в цеху старых знакомых и важно поделился с ними: «Мы, автоматчики, планируем совсем человеку труд усовершенствовать». Работы ему было немного: вести журнал указывающих приборов; их стояло еще больше, чем самописцев. Дядя Федя, не торопясь, обходил точки, с опаской по три раза всматривался в шкалы и тетрадку — те ли цифры. Он уважал числа, веря, что в каждом из них таится важное значение. Лесков полагался на его записи больше, чем на свои или закатовские, — тот «по запарке» мог и явную ошибку занести.
Дядя Федя вернулся в плохое время: после первого успеха открылся длительный период неудач. Три дня опытная мельница работала с неслыханной на фабрике производительностью, на четвертый производительность упала. Лескову принесли диаграммы шума мельницы. Он изучал их, встревоженный: мельница гремела тем же низким звуком, ровная кривая шума не показывала ни пиков, ни падения. Но сейчас эта ровная линия, такая же точно, как вчера и позавчера, обозначала не пятьдесят восемь тонн в час, а пятьдесят три, и почему, неизвестно. Прошел еще день, и производительность вновь упала — теперь больше сорока восьми тонн в час мельница не перерабатывала.
Лесков позвонил Лубянскому. Они вместе стояли у приборов и обсуждали положение. В стороне прохаживался лысый Николай; он был в дневной смене — Алексей ушел в ночь.
Лесков подозвал измельчителя — тот легче, чем они, мог объяснить загадку.
— Помогите нам, товарищ Сухов, — попросил Лесков. — Может, регулятор неправильно записывает шум? Как, по-вашему, мельница гремит так же, как прежде, или по-другому?
Но Николай не был похож на Алексея. Не постеснявшись Лубянского, он сердито блеснул глазами.
— Мне шума от старухи моей хватает, буду я еще над мельницей задумываться! — ответил он ворчливо.
Чтобы больше к нему не приставали, он пошел на другую мельницу, — та тоже была у него под присмотром.
— Крепко вы его обидели, — проговорил Лубянский. — Не вы, конечно, а ваша автоматика. Вероятно, его злит, что вы во всем советуетесь с Алексеем, — они ведь не ладят.
— А мне все равно, кто с кем не ладит, — с раздражением ответил Лесков. — Терпеть не могу, когда личные дрязги примешиваются к производственным отношениям.
Прошло еще два дня — производительность опять упала. Теперь опытная мельница перерабатывала столько же руды, сколько и любая другая, на ручном управлении. Загадка становилась все загадочней. Закатов, увлекавшийся темными вопросами, с пылом исследовал работу регулятора, забрасывая свой пескомер. Он каждый час создавал новую теорию, блестяще объясняющую все странности, и спешил поделиться ею с Селиковым. Тот высмеивал все теории, а когда Закатов слишком настаивал, грубо огрызался.
— Совсем слетел парень с точки, — жаловался Закатов Лескову. — Не говорит, а лает. И не исполняет распоряжений, все делает по-своему и плохо. Три года я его знаю, а таким не видел. Прошу вас вмешаться.
Лесков считал, что дело не в плохом характере Селикова, а в отсутствии ясного представления, где искать причину неполадок. Успех сплачивает людей, неудачи разобщают: каждому кажется, что только он один нашел настоящий выход, а остальные заблуждаются. Меньше нервничать, больше наблюдать — ничего другого он рекомендовать не собирается.