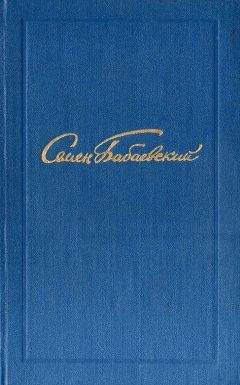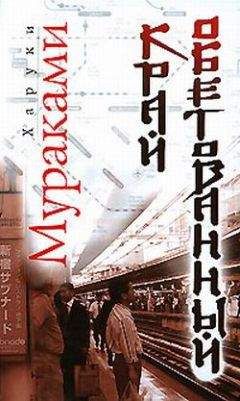Семен Бабаевский - Родимый край
Антон стоял у окна, слушал, кивал и соглашался.
Через час, когда Надя и Евдокия Ильинична вернулись, Саввы Нестеровича уже не было. Антон с детьми поджидал их в «Волге» — решил сегодня же показать матери новостройки. Вот и окраины. Как разросся, как раздвинулся город! И всюду тянулись к небу многоэтажные дома, всюду были просторные дворы, и всюду росли молодые, только что посаженные деревья. Антон останавливал «Волгу» то около завода с широкими железными воротами: заводские корпуса стояли где-то в глубине двора; то замедлял ход возле жилых кварталов, рассказывал матери, что это за новостройки, когда закончены, и какие еще здания намечено строить. Мать слушала, ее радовало, что все эти дома поставлены с помощью ее сына, а думала о своем: сколько же тут разместилось семей, и кто эти люди, и откуда они сюда прибыли? В новых домах, как заметила Евдокия Ильинична, люди тоже шили тесно. Возле их жилья не было ни садочка, ни курятника, ни какой иной пристройки… «Без ничего живут, — с сожалением подумала Евдокия Ильинична. — Нету у них, у сердешных, ни своей коровки, ни птицы, ни своего погребка… Как же без всего такого жить?». Смотрела на многоэтажные, с множеством окон и балконов, корпуса и размышляла о том, что все эти жильцы, что повесили на окна занавески и украсили балконы цветами в банках, здесь не родились: все они приехали сюда, навечно распрощавшись с родными обжитыми местами…
И когда «Волга» снова катилась по главной улице, к вечеру ставшей еще люднее и шумнее, Евдокия Ильинична мысленно была в Прискорбном и слышала неумолкающий шум воды под окном, видела свою хату, ферму на пригорке и тянувшуюся к ферме знакомую и привычную тропу. Если бы не нужно было вставлять зубы, она ни за что бы не задержалась у Антона. Погостила бы еще день-два и поспешила к Игнату, а оттуда в Прискорбный.
Сразу после ужина, намаявшись за день, Евдокия Ильинична легла отдыхать. Надя уложила детей и вошла в спальню. Антон сидел у столика и читал газету.
— Беда с мамой, — сказала Надя, снимая с кроватей покрывала. — Что старое, что малое — все едино…
— Ты о чем? — спросил Антон, не отрываясь от газеты.
— О ее рассуждениях за обедом… До чего договорилась! Придумала даже каких-то господ.
— Не придумала, — возразил Антон, глядя на жену. — Мы с тобой в ее представлении и есть те господа.
— Пойми, Антоша, что это прозвучало очень нехорошо, — доказывала Надя. — Хоть бы постыдилась…
— А ей некого и нечего стыдиться, — перебил Антон. — Она что думает, то и говорит… Вот мы иногда кривим душой, думаем одно, а говорим совсем другое — это плохо!
— В доме такой человек, а она начала доказывать, что все наши хозяйственные неполадки оттого, что у нас много начальников и что колхозники переехали жить в город… Смешно! Что подумал Савва Нестерович?
— Ты не права, Надя. — Антон отложил газету. — И не смешно, а печально. А Савва Нестерович как раз похвалил мать… Ну, не будем об этом. Как ее зубы?
— Все хорошо, — сухо ответила Надя. — Завтра она пойдет со мной в поликлинику.
— Отлично. — Антон подошел к Наде, положил руку ей на плечо. — Не дуйся и не сердись. Мать ничего плохого не сказала… И еще прошу: насчет нашего обручального кольца не возражай. Пусть оно сослужит доброе дело.
Надя на этот раз не стала спорить.
Глава 21
Прожив у сына неделю, Евдокия Ильинична еще раз убедилась в правоте той житейской истины, что человек ко всему привыкает, и быстрее привыкает, разумеется, к хорошему. Уже на пятый день она поняла, что не все в городе так плохо, как ей показалось сперва; что тут много разумного, хорошего, нужного людям, чего не было да и не могло быть в Прискорбном или в Трактовой. Привыкшая размышлять о вещах реальных, она брала простой пример: вода в квартире. Подумать только, какое удобство для хозяйки! Не нужно ходить с ведром на реку. Вода всякую минуту под рукой, трать ее столько, сколько пожелаешь, и любую: хочешь — горячую, а хочешь — холодную. Или кино… На хуторе жди да пожди, пока заглянет передвижка, а тут — иди и смотри, и не только в любой день, аив любой час. А книги? Сколько их на полках! И есть время для чтения. А театр? Живя в Прискорбном, она и понятия не имела о том, что в Краснодаре есть такое увлекательное представление. Два раза была с сыном и невесткой в театре. Как же там, среди празднично одетых людей, ей было приятно сидеть в удобном кресле, и она то смеялась, то вытирала платочком слезы, потому что на сцене видела натуральных людей и их жизнь. А цирк? Разве в Прискорбном можно посмотреть такое развеселое чудо и таких смелых артистов? А магазины? Чего только в них не было, и если есть деньги, то покупай все, что на тебя смотрит. Она уже купила Илье на костюм, Стеше — на платье и выбрала такой материал, какого в трактовском магазине не видала…
Опять, думая о городской жизни, она мысленно обращалась к тому, что было ближе сердцу: газовая плита. Какой же умный человек придумал эту штуковину? Не нужно ни дров, ни соломы. Только зажги спичку — и жарь, вари на плите хоть весь день. Полюбилась ей и ванна. Приятно было и полежать в ней и помыться, а потом лечь в постель и| уснуть. Была ли тут причиной ванна, газовая плита или что другое, Евдокия Ильинична не знала, только она стала замечать в себе странную перемену: не грустила, как прежде. Она охотно часами просиживала перед художником, и Леонид говорил ей, что вот тут, в городе, она была очень похожа на себя. Поражало то, что у нее был отличный сон и что она уже не спала так чутко, как на хуторе, и на зорьке ей не: хотелось вставать. Частенько внуки заставали ее в постели, и ей было совестно. «Или и ко мне начинает прилипать то баловство, каковое: уже прилипло к Ивановне? — думала она, сажая на колени ласкового, льнувшего к ней Юрика. — Видать, я тоже в городе уже разленилась…»
Раньше, до приезда к сыну, Евдокия Ильинична ничего этого не знала и полагала, что по-настоящему можно привыкнуть и, как она любила говорить, «прирасти сердцем» только к Прискорбному, с его устоявшейся тишиной, с его простором и тягучей, неумолкающей песней Кубани под окном; что нельзя без принуждения привыкнуть, а тем более нельзя полюбить многолюдную, шумную, торопливую городскую жизнь. И вдруг она точно бы прозрела и посмотрела на то, что ее окружало, другими глазами, и ей понравилось то, чего не, было в Прискорбном. Нравилась праздничная демонстрация, расцвеченная флагами и красными полотнищами, нескончаемо тянувшаяся по наполненной голосами улице. Евдокия Ильинична сидела на балконе и под впечатлением торжества людей, звуков музыки, разноголосых песен и разудалой пляски прямо на улице, чувствовала, что городская жизнь красива, и то, что еще вчера казалось немилым ее сердцу, сегодня манило к себе, радовало, волновало.
Все, что она видела до праздников и в праздники и что увидела позже, почему-то невольно сравнивала с тем, к чему привыкла в Прискорбном. Сидела в театре, была в магазине, заходила в городской парк и мысленно говорила себе: «А вот у нас в Прискорбном этого нету». И в душе ее уже не гнездилось, как бывало раньше, знакомое ей чувство неприязни к городу. Видела светлую, с большими окнами поликлинику, проходила по широкому, тоже светлому коридору, видела больных, входивших к врачам, и больных, выходивших от врачей, и говорила себе: «А вот у нас в Прискорбном этого нету».
Нравилась ей Надя в белом халате и в белой шапочке, непохожая на домашнюю Надю. Шмелем жужжала машина. Надя сверлила зуб, делала это смело, решительно, затем клала под губу и за щеки комковатую вату и просила не закрывать рот. Евдокия Ильинична испытывала боль, чувствовала вату и запах лекарств, а думала о том, что хорошо бы в Трактовой иметь и такую поликлинику, и такую мастерицу по зубам, как Надя, Нравился молодой, тоже в белом халате, но без шапочки, красивый, стройный мужчина со смолисто-черными, гладко зализанными волосами; нравился и потому, что был молод и пригож собой, и потому, что был приветлив, обходителен. Он пригласил Евдокию Ильиничну в свой кабинет, усадил в такое же кожаное, как и у Нади, кресло с удобным гнездом для головы, а потом сказал:
— Вот так, мамаша, и сидите.
Включил точно такую же, как у Нади, машину, и так же, как Надя, что-то отыскивал в зубах, что-то подпиливал в них и подтачивал. И опять ласково посмотрел Евдокии Ильиничне в глаза и сказал:
— Поставим вам, мамаша, зубы поострее и покрепче тех, какие были у вас в молодости.
На что Евдокия Ильинична вежливо ответила:
— И что вы такое говорите? Таких зубов, какие бывают у человека в молодости, никто поставить не сумеет.
— А вот я поставлю!
И опять Евдокия Ильинична вежливо ответила:
— Ну, тогда вы, извиняюсь, есть чародей.
— Не чародей, мамаша, а дело свое знаю.
После того как они так приятно поговорили, стройный мужчина попросил свою пациентку сполоснуть рот, что Евдокия Ильинична и сделала. Потом он взял со стола металлический совочек, вылил на него из чашки что-то похожее на остывшую и слегка загустевшую сметану и сунул совочек Евдокии Ильиничне в рот так проворно, что она не успела глазом моргнуть. Она чувствовала, как солоноватая на вкус «сметана» теплела и быстро твердела. Неприятны были и этот солоноватый привкус, и эта каменная твердость «сметаны», а особенно то, что нельзя было закрыть рот и пошевельнуть языком. Евдокия Ильинична терпела