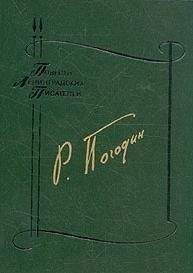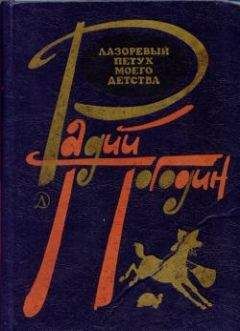Радий Погодин - Река (сборник)
Васька отогнул покрывало. Ранка на виске лейтенанта была свежей и круглой, и ни порошинки вокруг.
— Теперь понимаешь? — спросил доктор.
— Ничего не понимаю. Он навел пистолет на меня. Я спрятался за косяк. Убить его никто не мог, никого вокруг не было.
— Этого ты знать не можешь, — сказал майор Махоркин.
— Не могу, — согласился Васька. — Но я знаю… Он застрелился. С такими, как у него, глазами не живут. Вы бы видели его глаза.
— Все это лирика. Ожога нет, считай, его застрелили. Ближе всех был ты. У тебя в нагане нет патрона. Ты мстил за смерть товарища. После того, как Гуляю плечо прострелил, ты мог набить обойму сто раз.
— Думай, Егоров, — сказал доктор. — Думай. Что у него на голове было?
— Я сяду. — Васька огляделся.
— К стенке тебя поставят, — пробурчал Махоркин.
Васька выкатил из угла пустой бочонок, сел на него и закрыл глаза. Он представил себе лейтенанта Еремина. Лицо его, серебристое от луны и от пота. Провалившиеся виски. И глаза. Белые. А волосы? Не было у него волос
— Шлем, — сказал Васька. — На нем был шлем парашютный. Не летчиский. Тонкий такой — парашютистский.
— Вот и иди, ищи этот шлем. Найдешь — твое счастье. Не найдешь — я тебе не завидую. Нам тут детективы некогда разгадывать, тут фронт. Ты грозил его кокнуть? И Гуляй говорит. И другие…
Васька врезал ногой по бочонку, на котором сидел, — бочонок рассыпался.
На дороге Ваську поджидали Петры и Кувалда.
— Ты так орал… Мы поспешили…
— Этот сукин сын в шлеме был… Я видел, он в шлеме был…
Шлем нашли быстро. Наверное, лейтенант в тот миг сорвал шлем с себя и как бы крикнул, кого-то проклял. Но скорее разведчики, когда в покрывало его заворачивали, — отшвырнули.
Кожа, прикрывавшая висок, была ломкой, обожженной, шершавой, и дырочка в ней.
Васька побежал, размахивая шлемом.
— Нате. — Не Махоркину Васька шлем отдал, а доктору.
— Ну вот, — сказал доктор облегченно. — Теперь все правильно. Видишь, Махоркин, самострельцы не знают, что через перчатку нужно в себя стрелять. Через хлеб стреляют, через подушку. В ранах крошки, перья. А тут чистенько. Чистенько, Егоров.
— Разрешите идти? — спросил Васька.
Доктор посмотрел на него удивленно, хмыкнул и сказал:
— Ты не сердись. Но Ты его мог?
— Мог, — сказал Васька, — Не сегодня.
— Иди, — сказал доктор.
Ночь уже распрозрачнилась, не разбелилась, но ослабела в тоне, из чернильного пошла к светло-синему. И уже не было луны.
У дома Васька постоял на дорожке, где лейтенант застрелился. Поднялся на крыльцо и на крыльце постоял. Он вспомнил Степана — как шли они вместе из госпиталя по мокрому снегу, по украинской раскисшей земле.
В доме все спали, Васька тоже уснул.
Роту подняли рано, может быть, часа три и удалось поспать Ваське. Они уже сидели в машине, когда пришел посыльный от командира бригады.
— Егоров, тебя к генералу.
Васька пошел, поеживаясь. Генерал стоял у своей машины.
— Похоронишь его, — сказал он. И, оглядев исподлобья окружавших его командиров, добавил: — Похоронишь в дорогу.
— Это как? — спросил Васька, недоуменно и потому громко.
Командиры на Ваську не смотрели, не смотрели они и на генерала — они в землю смотрели.
— Как я сказал — закопаешь в дорогу. Чтобы и памяти о нем не осталось. Понял? Выполняй.
Васька козырнул и пошел к своей машине, что-то еще не понимая до конца.
— Самоубийц за оградой кладбища хоронили, — объяснил Ваське Петр Великий. — А в дорогу… Не знаю.
— В дорогу — душегубов, — сказал Ильюша.
Труп лейтенанта Еремина лежал там же на верстаке, покрытый розовым покрывалом.
Когда бригада ушла, Васькино отделение покаталось вокруг деревни на машине. Выбрали они песчаную дорогу, идущую сквозь сосновый бор. Дорога была дном оврага с покатыми склонами. На склонах негусто росли сосны. Наверху лес был хороший, басистый.
Достали лопаты с длинными ручками.
— Копайте, — сказал Васька.
— Сам копай, — сказали ему.
— Генерал приказал.
— Он тебе приказал.
— Почему? У лейтенанта Еремина свой взвод.
— Они бы его и закапывать не стали, в канаву бы выбросили — и все.
— Но почему нам?
— Не нам, а тебе.
Васька поворошил ногой песок дороги, изрытой копытами и велосипедными шинами. Живая дорога — проезжая.
Васька в небо поглядел, почесал за ухом и показал рукой на вершину склона, где сосны гудели от неусыпного ветра.
— Там похороним. По-человечески. Дураком он был, но душегубом — не думаю.
Петры взяли по лопате и помчались по склону. Остальные — и Васькино отделение, и автоматчики, их распределяли по машинам, когда бригада делала бросок, — потащили лейтенанта Еремина. Он в покрывале согнулся, прочертил задом свою колею в песке.
Сверху вид был красивый на ухоженные поля. И небо было яркое. Облака стекали, как пена с голубого пива.
Над могилой холмик насыпали. Шофер, он у Васьки был постарше других, как и все шоферы в роте, палку выстругал, прибил к ней фанерку и написал: Лейтенант Еремин. А самый младший солдат, Васькин тезка, Вася Смирнов, отвернувшись в сторону, попросил:
— Припиши, а, погиб смертью храбрых. Застрелился — это нужно понять. Тут один на один…
Шофер глянул на Ваську и приписал. И эта песочная лесная дорога в Германии влилась в бесконечную дорогу России.
Когда Василию Егорову потом говорили о каком-то особом предназначении Руси, он кивал.
— Да, — говорил. — Хоронить.
Борьба с формализмом
Где-то там, в облаках, зарождается звук,
В облаках истаявших и ушедших.
Он жужжит, как черная точка.
Визжит, как соринка в глазу.
Он заходится в немоте.
Если на белый
Чистый лист ватмана
Наступили.
Нынче пейзаж не моден, да и трудно это. Во-первых — скучно. Во-вторых — расточительно. Время
Время — деньги. Время — скорость. Время — доктор. Время — пространство. Время увеличивает наши печали…
Хорошо включить в пейзаж что-то движущееся. Например, лошадь. Но лучше девушку. Вот и представьте себе Таню Пальму, идущую по дороге.
Таня босая. В тесной майке. На груди нарисованы два яблока. Волосы выцвели. Глаза, как электросварка в тумане.
Идет Таня на Уткину дачу, что близ деревни Устье, над речкой — на плече крутого холма.
Вокруг дачи волна шиповника, пчелы гудят в цветках с жадными желтыми сердцевинками. Коровы тут ходят, норовят проломиться. Исцарапавшись, мотают башкой, мычат с возмущением. Хозяева дачи удобряют шиповник коровьими лепешками. Кусты наращивают тело ветвей, мускулы листьев, острия шипов — похоже, уходят из природы цветов в природу колючей проволоки.
Под крутым холмом течет Речка. Дно ее состоит из булыжника. Речка здесь скачет, встает на дыбы. Туристы, плывущие на плотах и байдарках, называют это место матерным словом — туристы сраму не имут.
Русский мат, в устной речи такой фигуральный, художественному повествованию мешает. Традиция избегает его не из ханжества, но из того понимания, что литература все-таки — греза.
В деревне Устье Речка впадает в Реку. Речка здесь тихая, заросшая водяной травой. Туристы, пугая коров и гусей, проталкивают свой плот по густой водяной траве. Выплывают в Реку. На Реке они разгибаются, кричат и поют, как сбежавшие каторжане. Не было еще случая, чтобы турист на Реке не запел.
Два мужика сидели, прислонясь к валуну. Пили водку. Закусывали сушеным бананом. Выглядели мужики чемпионами по рытью траншей: на каскетках — Макдональдс, на кроссовках — Пума. Звали мужиков: одного Яков, другого Валентин.
Неподалеку в траве ходили дрозды. Икала молодая курочка, наверное, испугалась. Дрозды послушали ее, да и взялись икать тоже.
— Птицы, — сказал Яков. — Икают, как и мы.
— Дерьмо, — сказал Валентин. — Голову открутить и в суп. И этих фрайеров в суп. — Под фрайерами Валентин подразумевал дроздов. — Кому бы по хлебалу дать и на кулак подуть? Дашь — и по всему телу радость. — Валентин заорал вдруг, как орет в лесу невежливая городская душа.
Курочка икать перестала. Дрозды убежали в цветущий шиповник. Солнце выглянуло из-за тучи. Мужики вспыхнули, как канадские блесны. В эту минуту Таня Пальма сбежала с дороги.
— Добрый день, — сказала она. — Вы братья Свинчатниковы. Вас с моста сбросили. Я тогда маленькая была.
Мужики поднялись. Валентин потрогал Таню за попку.
— Мандолинка.
— И не стыдно.
— Я по-братски. Брат Яков, потрогай ее за попку.
Таня ткнула Валентину кулаком в глаз и пошла к дому на стройных ногах, вся приподнятая кверху — к любви. Таня уверена, что к любви — это кверху.
— А мы тебе ножки выдернем. Мы тебя на шашлык, на конец желания. Таня протиснулась в чуть приоткрытые низкие воротца, избитые рогами коров.