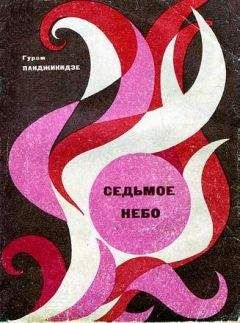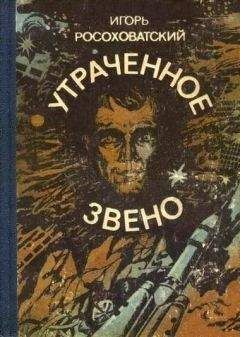Петр Павленко - Собрание сочинений. Том 6
— А, Полежаев, Московского полка! Кто его не знает!.. Ну, подпою, попробую…
И она заводит красивым, мягким, все обещающим голосом гребенской казачки:
Мне наскучило, девице,
Одинешенькой в светлице
Шить узоры серебром!
И без матушки родимой
Сарафанчик мой любимый
Я надела вечерком —
Сарафанчик,
Расстеганчик!
Но этих слов сердце Максима Максимовича уже не в силах выдержать.
— Налей-ка, Маша, — говорит он сипло. — Ну его к чорту, пение это. Вконец простудил голос, ей-богу. Ночевать у меня будешь? Вот и ладно. Будет что вспомнить. Иди-ка, распорядись.
И Марья Андреевна понимает, что мир заключен. Отложив гитару, идет она застелить низкую, крытую старым паласом тахту, а Максим Максимыч галантно отправляется посмотреть ее коня, и слышно, как он по-хозяйски оглаживает его и треплет по шее.
…Они тушат свет, ложатся и уже без слов вспоминают многое, что должно было итти так, а пошло иначе.
Долго, до самой зари, не спят они, хоть и притворяются, берегут друг друга.
А утром, выпив чаю и по чаплашке чачи, Максим Максимович говорит, глядя в окно, в сизый мрак туманного и штормового моря.
— Вот что, Маша. Я тебе сотню дам, пожалуй даже полторы. Но уж береги, прошу, холостяцкий грош. Сама знаешь, как достался он. Керим этот твой Ассадулаев, анасын сыхын, третий месяц за шесть арб соли не отдает, персюк проклятый. Главное, знаю, что в горы, собака, их отправил. Уж я молчу.
«И что ты за купец такой на мою голову», — с почтением и смехом думает Марья Андреевна, глядя на его седое всклокоченное лицо.
— Вздыхаешь? — говорит, провожая ее на крыльцо и помогая сесть на коня, Максим Максимович. — Вздыхай, вздыхай перед боем. Хоть ты и маркитантка, а все равно. Под Ватерлоо, говорили мне, девять маркитанток погибло, имей в виду. Ну, с богом! Помни старика!
1938
Семейный случай
Острый и, кажется, неистребимый запах наполняет избу до самого потолка. Кислый запах портянок, махорки, мокрой одежды и пота.
Лампа без стекла, она нещадно чадит. От ее грязного света газета, которую читают за столом двое бойцов, кажется желтой. За краями газетного листа все черно. Света мало, и не видно, как на полу вповалку, положив головы друг другу на плечи, спят бойцы.
Дверь открывается, и на пороге несмело появляется красноармеец в черной блестящей плащ-палатке Он похож на большую мокрую птицу. С острых концов опущенных крыльев стекают на пол струйки воды.
Вошедший, осторожно придерживая пальцем щеколду, старательно прикрывает дверь. Он с любопытством и опаской осматривает избу.
Человек, сидящий за столом, откладывает газету. На лицо его, на погоны падает свет.
Сержант неприязненно осматривает вошедшего и спрашивает усталым, безразличным голосом:
— Чего тебе, милый человек, надобно?
— Расположиться здесь хочу. С дороги все-таки…
— Здесь, милый человек, итак сбор битковый. А проживаем мы поотделенно, согласно распорядка.
— Все-таки хочу я здесь остаться, — говорит вошедший, пытаясь развязать мокрый шнурок капюшона.
— Здесь, здесь… — с раздражением повторяет сержант. — Тебе же, чудак ты человек, объясняют. Квартируем мы поотделенно, как подобает. Согласно распорядка. Тебе лучше податься на другой конец деревни. Там такой тесноты не наблюдается. А ты пришел не по назначению, в чужую избу. Вот и приходится тебе, милый человек, отказывать.
— Да это изба не чужая, — тихо говорит вошедший. — Хозяином я здесь проживал, в колхозе. Вот имущество мое — самовар, кровать, сундучок вон там, лампа. Не знаю только про семейство. Живы, нет ли…
Сержант даже привстал от неожиданности. Газета упала.
— И спросить, товарищ, про семейство как-то страшно, — продолжал красноармеец в плащ-палатке. — Никак язык не повернется…
— А ты не страшись, милый человек! — возбужденно и неожиданно громко воскликнул сержант. — Хозяйка твоя в целости и сохранности, — побежала в сарай за дровами. И ребятишки тоже вскорости объявятся: бойцы на том конце деревни патефон крутят, вот они там музыкальные пластинки и слушают.
Вошедший ничего не сказал, отвернулся и опять принялся трясущимися пальцами распутывать на шее мокрый шнурок. Щелкнула щеколда, широко распахнулась дверь, и на пороге показалась хозяйка. Она несла вязанку дров.
В чадном полумраке женщина не сразу заметила вошедшего и столкнулась с ним лицом к лицу.
— Павлуша, — тихо сказала женщина и, чтобы не упасть, прислонилась к дверному косяку. Вязанка выскользнула из ее рук. — Павлуша, — прошептала она побелевшими губами. — Ты…
Вошедший почему-то ожидал, что жена заплачет в три ручья. Но счастливые глаза ее были сухи. Она продолжала шептать едва слышно, но каждое слово, оброненное ею, было тяжелым, как непролитая слеза…
Весь день Павел Ноздрин думал, как это будет. Всю последнюю неделю думал, с тех пор как узнал, что полк пройдет недалеко от Башмаковки.
Командир полка выслушал его просьбу и заявил:
— Тут и разговора не будет. Как же не зайти мимоходом? Обязательно надо зайти. Проведай, узнай, что и как. Передай гвардейский привет, и обратно. За трое суток обернешься.
Отпускник весь день шагал по размытой дождями проселочной дороге, потом ехал на полуторке, потом снова шел и снова ехал. Шоферы, узнав, куда он торопится, сразу становились приветливее, охотно подсаживали и даже поддавали газу.
Уже в Кудинове Ноздрин узнал, что Башмаковка цела Немцы уходили из нее поспешно и не успели сжечь.
Из Кудинова Ноздрин шел пешком. Он прошел поле, Крапивную Балку, потом свернул с дороги и пошел напрямик через рощу, как всегда ходил. Он шагал по тропинке, нетерпеливо раздвигая ветки, и все ждал, когда услышит лай башмаковских псов — самых брехливых и задиристых в округе.
Собаки не лаяли, и это было тревожно. Ноздрин не знал, что немцы перестреляли всех собак.
На улице пустынно и тихо в этот июньский вечер. Но около изб у стен, хоронясь в их тени, стоят машины. У некоторых изб и у колодца прогуливаются часовые.
Изба та же самая, крылечко то же самое, а стекол в двух окнах нет, переплеты залатаны фанерой. И от этого тоже тревожно.
Павел не решился сразу подняться на ступеньки крыльца. Все время торопился, а сейчас почему-то остался стоять на улице. И дождевые капли стучали по его каске, как по крыше.
Потом он все-таки поднялся на крыльцо и долго счищал под дождем грязь с сапог…
Он ожидал, что заплачет жена. Но, когда она бросилась к нему на грудь и прижалась лицом к мокрому плащу, заплакал он сам. Он плакал и говорил при этом:
— Не надо, Маша. Не надо плакать…
Слезы катились по его небритым щекам, как еще недавно — дождевые капли.
Он сконфузился, мягко отстранил жену, нагнулся и начал собирать поленья.
Жена с нежностью посмотрела на него, потом тоже нагнулась и начала ему помогать.
В избе стало очень тихо. Сержант стоял у стола, переминаясь с ноги на ногу.
Его сосед, красноармеец с добрым безбровым лицом, почему-то закашлялся, прикрывая при этом рот рукой. Он полез за кисетом, хотя курить ему не хотелось — он только что затоптал толстый окурок.
— А ты бы, Онищенко, сходил пока за ребятами, — посоветовал сержант красноармейцу, достававшему кисет. Онищенко устыдился своей недогадливости и как был, без плаща, выбежал под дождь.
Двое спящих бойцов проснулись. Может, их разбудил стук дров, упавших на пол. Один стоял на коленях, другой привстал, опершись локтем на подостланную шинель.
Сержант зачем-то поправил на себе пояс и, наконец, сказал:
— Так что извините за беспокойство, милые люди. Мы сейчас тронемся. Надо вам покой предоставить. Все-таки, случай…
— Изба просторная, устроимся. В тесноте, да не в обиде, — оказал Ноздрин.
— Семейный праздник, а мы тут разлеглись, как на вокзале.
— Хотя бы дождь переждали, — сказала хозяйка, прислушиваясь. Дождевые капли барабанили по оконному стеклу, по фанере.
Но сержант оказался на редкость несговорчивым.
— Пойдем к соседям. Не по назначению, но нас примут. Раз такое дело…
Бойцы растолкали спящих товарищей, и все как-то удивительно проворно собрались и ушли досыпать куда-то в соседний дом.
Спустя полчаса раздался осторожный стук в дверь. Сержант вошел и увидел, что вся семья Ноздриных сидит в полном сборе за столом и чаевничает.
Шестилетний Сережа и его младшая сестренка Леночка смотрели на отца, не столько обрадованные, сколько заинтересованные. Ребята много раз слышали от матери и от приезжих дядей, что их отец в Красной Армии. Но они никогда не видели его в военной форме. Он ушел из дому в военкомат в старой черной куртке и кепке.