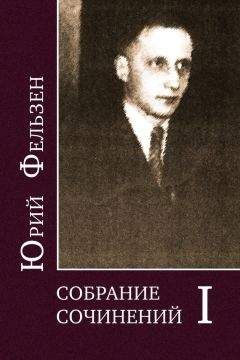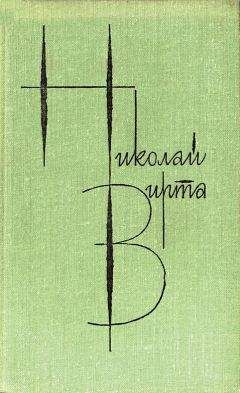Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том II
Борьба окажется долгой и трудной. Помимо сравнения различных «идеалов», помимо того, что придется доказывать, насколько они несовместимы (или класс, или раса – или свобода), людей придется также лечить и от пленительной рабской психологии. В опеке, в готовых жизненных формулах, в законной возможности не думать, в автоматических, стадных порывах, таится особый, глубокий соблазн, едва ли в точности оцененный. К тому же многие это называют любовью к системе и к порядку.
Конечно, рабство, «железный порядок», невыносимее, опаснее всего для людей разнородного творческого склада. Их призвание – самим находить и отбирать то, что им кажется верным и нужным – чего диктатура не допустит. И этому прямое подтверждение – вся неудача советского искусства, несмотря на количество и качество талантов. Очевидно и всякая борьба за свободу – в пробуждении творческих склонностей, в том, чтобы каждому хотелось добиться – не каких-то формальных достижений, но просто личного своего отношения к общественной жизни, к миру, к себе.
Сейчас свобода – мертвое для многих слово – и «дурно пахнут мертвые слова». Одна из причин – постоянная ложь, защита свободы ее ненавистниками в бесконечных столкновениях друг с другом. Вторая – лицемерно-фальшивые союзы, где вовлекают в борьбу за свободу опять-таки злейших ее врагов. Но главная, первая – в ней же самой, в том, как уродливо ее понимают, во что постепенно она превратилась. Увы, либеральная свобода, без братства, любви и теплоты – эгоистически-бездушно-ледяная. В ней всё труднее становится жить и она всё нагляднее нуждается в «коррективе» симпатии и жалости. И здесь бывает неизбежная ошибка: корректив принимается за сущность, как принимается за целое часть, и с легким сердцем жертвуют свободой ради сомнительного «равенства и братства». Результат получается такой, что он уродливей отказа от братства во имя и в пользу свободы: в той же России, где «строят социализм», люди как будто забыли о жалости.
Но если расширить понятие свободы (о чем говорилось не однажды), если можно свободу спасти, то не пора ли практически действовать, опережая «конкурентов» в энергии, в дальновидности, даже в приемах, не применяя, однако, насилия – ведь и они начинают с убеждения.
Перехожу не без робкого смущения к маниловской части статьи.
Наша среда, нам единственно близкая и нам доступная – только эмиграция. Значит, ею и надо ограничиться и в ней произвести какой-то опыт. Мне кажется, множество людей – и партийных, и далеких от политики, и рабочих, и «буржуев», и писателей, и лидеров, спорящих между собой, – еще не поздно теперь объединить в надпартийном «Союзе Свободы», одинаково непримиримо-враждебном и правой, и левой диктатуре. К его услугам были бы, наверное, газеты, журналы, прекрасные лекторы. Я думаю, искренность, умение, упорство, пропаганда, разумно-горячие слова могли бы увлечь, расшевелить изменивших или равнодушных, особенно из самых молодых, из самых «беспризорных» эмигрантов. И разве цель и смысл эмиграции – не в этом, не в защите свободы?
Я боюсь, что отстаиваю прописи. Но трагичность нашей судьбы – в том, что забыты именно прописи.
I. Возвращение из России
О книге Жида говорили до ее выхода, и люди, посвященные в тайны, с улыбкой утверждали, что нам, русским эмигрантам, она будет приятной. После ее выхода и всего поднятого ею шума нередко нас спрашивают: «Ну что же, вы довольны?» Надо сказать правду, мы не можем быть довольны: то, что Андре Жид нам сообщает, если полностью ему верить, так грустно и так трагично для каждого русского, как ни одно другое свидетельство о теперешней России. Мы долгие годы жили надеждой, будто советская власть перестраивает Россию на свой, нам отвратительный лад, но будто живая подсоветская Россия молчаливо и стойко ей сопротивляется и, попреки большевикам, духовно как-то сохранилась. Андре Жид, против своей воли, нашел у советской власти все те отвратительные пороки, которые и мы ей приписывали, однако русский народ кажется ему послушно и безоговорочно приемлющим власть.
Вся Россия, от верхов до низов, живет, по его наблюдениям, в атмосфере революционного благополучия: никаких сомнений в себе, за границей еще хуже, ни малейшего желания что-либо у себя изменить. Когда-то Жид уверовал в коммунизм, оттолкнувшись от буржуазной Европы, от ее лицемерной морали, от жестокого социального неравенства. В коммунизме он искал не только братство и теплоту, но и духовное бесстрашие и честность – этого он в советской России не увидал, и неожиданно его потянуло назад, в свободную Францию, ему пришлось оценить то, чего он раньше не ценил, остатки гуманизма в либеральной части Европы.
О книге Жида написано много, ее, действительно, в своих целях использовали, как он того и боялся, реакционеры, хотя каждое его обвинение применимо и к ним. Русским критикам его книги представилось (или, естественно, захотелось, чтобы так именно было), им представилось, будто Жид восхищен всем русским и разочарован во всем советском. Но это глубоко неверно: Жид нигде не отделяет России от советчины. Если что-либо ему нравится – дети, заботы о них, рабочие клубы – то нравится ему и деятельность в этом направлении большевистской власти, и те, кого большевистская власть так деятельно опекает. Если что-либо для него невыносимо – самодовольство, равнодушное единогласие – то и здесь явно сливаются требования власти и покорность народа. Единственное разграничение, которое он упрямо проводит – советской власти, Сталина, с одной стороны, коммунистического идеала, с другой. Невоплощенному этому идеалу он хочет остаться верным.
К его книге можно подходить с двух разных концов: в ней есть «загадка Жида» и есть «загадка России». Первая тема неистощима, запутанна и нас Бог знает куда заведет, но кратко надо разобраться и в ней, чтобы понять, попытаться разрешить вторую, для нас теперь столь ответственно-важную. Всякому внимательному читателю после любой книги Жида ясно, что его стремление шире, чем написать «высокохудожественное произведение», что он бьется над основным толстовским вопросом, так хорошо у Толстого выраженным: «Что же нам делать?» И сразу очевидно огромное между ними различие: Толстой, ставя этот вопрос, как бы отказывается от своего прошлого, от «Войны и мира», от всего своего писательского призвания. Говорит тот же человек, который написал «Войну и мир», но говорит аскетически просто и сурово, без малейшей художнической позы, избегая применять свое дарование, напротив, его почти убивая. Жид ни одной секунды не перестает быть артистом (несравненно меньшим и более слабым, чем Толстой), и в его поисках правды нужно учитывать эту неискоренимую артистическую позу, долю воображения, мысль о впечатлении, вероятного читателя, от тени которого Жиду никак не избавиться. Даже интеллектуальная честность «Возвращения из России», буквально всеми критиками подчеркнутая, иногда смутно-подозрительна: так, казалось бы, разочарование Жида в советском укладе, после предшествовавших «immenses espoirs», должно было его довести до предельного отчаяния, но вся книга выдержана в объективно-спокойном тоне. Видимо, артист победил человека, любознательный наблюдатель – измученного «поборника правды». Ведь не мог же он в несколько месяцев преодолеть свою горечь и так стройно-изящно увиденное передать. И как хватило у него сил написать бодрые строки, что «С.С.С.Р. не перестает нас поучать и удивлять», – по поводу вмешательства большевиков в испанские события, – когда такой праведный гнев у него вызвали советское лицемерие и советское рабство. Толстой бы, наверно, этого не простил за вмешательство в испанские дела. Не буду, однако, преуменьшать безупречной искренности Жида – у каждого свои возможности, и никому через них не прорваться – но думаю, что стройность, цельность всего описанного в его книге, печальное тождество большевизма и России, отчасти есть композиционная, артистическая цельность. Иначе он поразился бы собственной своей непоследовательности: его в то же время восхищает братская теплота русской толпы, отдельных русских людей, и отталкивает сухое их бессердечие к беднякам, причем он меланхолически замечает: «Это происходит из-за того, что власть запретила частную благотворительность». Мне кажется, многое стало бы понятным в советском быту, если бы точно себе уяснить, насколько вяжется характер русского человека, русского народа, с обликом и задачами большевистской власти. Только это и заставляет большевиков усиливать террор, несмотря на восемнадцать лет диктатуры и внешнюю прочность ее организации.
Разумеется, одной «композиционной стройностью» ошибку Жида нельзя объяснить. К ней его привела, как ни странно, крайняя доверчивость. Подобно стольким другим туристам, он поверил всему, что услышал, вопреки скептическим оговоркам умного человека, постоянно в книге приводимым. Тут повторяется неизменное и жалкое явление: левые туристы верят всему, что им показывают в советской России, правые не верят ничему. Но в противоположность остальным левым туристам Жид показанного, рассказанного ему не одобрил. Он, действительно, поверил, что каждый советский гражданин ждет предписаний из Москвы для выработки своих мнений по каждому вопросу, что любой писатель горячо приветствует «генеральную линию», что тайной, внутренней оппозиции нет, что нет и критики, что никого не задевает возрастающее социальное неравенство, что молодежь стремится лишь к дозволенной «марксистской культуре». Он забыл, что часть услышанного им говорилось «не за совесть, а за страх». Откуда иначе расстрелы, переполнение тюрем и лагерей гепеу. Всё то, что Жиду сообщалось, он принял за чистую монету и приписал пресловутой пассивности русского народа. По его убеждению, народ разделяет изменчивые стремления власти, всё более антигуманистической, и, вместе с большевиками, он осуждает и русский народ во имя того, что «выше меня и России», во имя «человечества, культуры». Оттого для нас неимоверно-печальна книга Жида. Мы отсюда, издалека, ничего не видим и не знаем, невольно набрасываемся на всякое чужое свидетельство и можем в ответ, увы, лишь эмоционально возражать: нет, мы чувствуем, что это не так и до такой степени русский человек не успел переродиться, мы лучше понимаем его, чем самые проницательные иностранцы. Но, конечно, они будут упорно настаивать на своем.