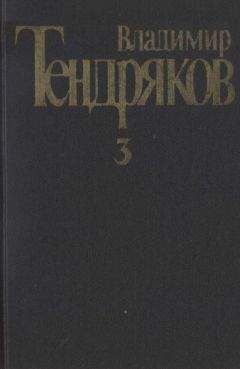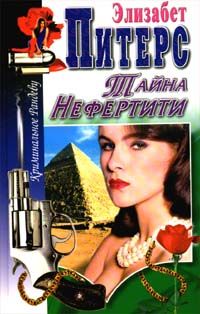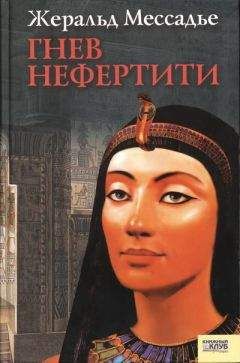Владимир Тендряков - Свидание с Нефертити
— Слышали! Дальше!
— Я Слободко не люблю! Я Православного люблю… Честное слово.
— Заткнись в лирике! К делу!
— Так я ж к делу… — Лицо Ивана Мыша порозовело, лоб залоснился испариной, глаза ожили, покрылись влагой, они по-собачьи преданно останавливались то на Федоре, то на Вячеславе. — Я к тому — вы ж просили защитить Слободко. Просили же…
— Держись, Федор! Горилла опять смеется над нами!
— Выслушайте, выслушайте! Какой тут смех… Беда случилась. Кто мне теперь поверит? Кто?
— Ты, гнида, плакаться будешь или рассказывать?!
— Не хотел я… Что мне Православный дурного сделал? Что? Я Слободко не люблю… А этот меня толкнул…
— Кто толкнул? Слободко?
— Да нет же, директор.
— Директор? На Православного? Сам?
— Я же к нему пошел выручать Слободко… Будь он трижды проклят, этот Слободко! Все из-за него…
— Ну?!
— Стал говорить: Слободко не виновен… А на Слободко-то уже приказ был… Не ждал я, что так… Если б знал, от порога шарахнулся… Все обо мне думают — детина великая, кулаки что гири. А какой толк мне в больших кулаках? Я же боюсь кулаком на курицу замахнуться… И все-то меня бездарью считают. Все — и вы и директор. Самое страшное, что никак не пойму — почему я бездарь? Погляжу на свой холст — мне нравится, кажется, что лучше-то и не сделаешь. А кто ни поглядит — нос воротит, словно сговорились… Самое страшное — не могу понять почему?..
— Зубы не заговаривай!
— Кто я для директора — козявка! Раздавит и не поморщится. А тут он осатанел… Право слово, осатанел, когда услышал, что я Слободко защищаю. Приказ же написан… Пошел меня чесать: «Дружка спасаешь! Приятельские отношения!..» Это Слободко-то мне приятель? За кого терпеть должен?.. Вот как обернулось…
— Обернулось, что ты Православного в пасть сунул?
— Сволочь я! Душа у меня заячья! — Собачий преданный взгляд. Заглядывает не в глаза, а в рот.
Федор почувствовал уже знакомую ему брезгливую неловкость, процедил:
— Я не в первый раз слышу это. Хватит!
— Кляните, хлопцы, бейте, ругайте — сам морду подставлю… Не хотел я Православного! Не хотел! Случайно вырвалось.
— Что вырвалось?
— Директор-то упомянул: Слободко с Милгой связан, с этим элементом…
— Ну?
— Сволочь я! Дурак последний! Дернуло меня за язык… Хлопцы, дайте мне в морду! Сорвалось, честное слово, сорвалось… Ляпнул я не подумавши, что это Шлихман первым Милгу нащупал и нас со Слободко привел к нему…
— Та-ак. — Вячеслав с Федором переглянулись.
В глубине серых глаз Вячеслава — что-то тоскливое, скулящее, осунувшееся лицо заморожено, он, должно быть, испытывал такую же тоскливую неловкость, как и Федор. Он, Вячеслав, боится Ивана Мыша. Еще немного, и придется простить, Мыш выйдет победителем.
А Мыш униженно, просяще ласкает влажным взглядом:
— Хлопцы… Я ж не думал, что он вцепится в мои слова. А слово-то не воробей — вылетело… Я было туды-сюды, а он жмет, юшка из меня течет… Не хотел же, не хотел! Против воли случилось. Сам себе не хозяин… А уж сказал — верую, скажи и — господи.
Влажно-обволакивающе глядит Иван Мыш, обычно граненое лицо его размякло, порозовело, на лбу, на крыльях носа — испарина. И Федор чувствует тошноту от влажного взгляда. Собака легла на спину, подняла лапы, рука не подымается ударить. Да и как ударить? Ни Федор, ни Вячеслав — не власть для Мыша. Могут лишь плюнуть в физиономию, а на физиономии готовность — утрусь, не извольте беспокоиться. И чувствуется, что Иван Мыш угадывает их беспомощность, и где-то в уголках его ласковых глаз чудится насмешка.
— Держись, Федор! Хитра горилла!
Федор поднялся с койки, одернул пиджак, тихо сказал:
— Вот что — проваливай.
Иван Мыш преданно мигал и не отвечал.
— Проваливай отсюда. И сейчас.
— Куда?
— Куда хочешь. На все четыре…
— Как же это, хлопцы?
— Больше на «сволочь» не купишь. Не выйдет.
Иван Мыш продолжал недоверчиво мигать. Федор придвинул к себе стул, сбросил с него куртку Православного, повторил так же тихо:
— Ну?
Невозможно слушать его храп по ночам, его привычную фразу: «Почаевать, хлопцы, не дурно бы…» Или Иван Мыш — или самому придется уйти. Драться будет?.. Ну, поглядим. Федор вцепился в стул.
— Да кто вы такие, чтоб гнать? — В глазах еще не высохла влага, но губы скопчески поджались. — Кто вы такие?
— Собирай манатки!
— Ты не пугай… Я по-хорошему…
— Вот именно по-хорошему. Проваливай!
Минуту назад ласковые, преданные глаза округлились, из мутноватой роговицы — буравящий зрачок, нижняя губа поползла вперед лодочкой.
— Да я ж вас… — Шипящий шепот: — Я ж вас обоих в крупу, вместе со стулом… Вы ж меня знаете — обоих в крупу!
— Ну вот, — Вячеслав вздохнул облегченно, — наконец-то обезьяна показала свое лицо.
И этот облегченный вздох и спокойный голос оглушили Ивана — глаза по-прежнему округлены, рот раскрыт, немота на физиономии.
— Федор, оставь стул, — сказал Вячеслав. — Пусть ляжет… Ложись, голубчик, но помни, что спать опасно. Возле тебя не ангелы-хранители.
Иван Мыш обмяк:
— Хотя бы эту ночь переночую.
— Попробуй, если не боишься.
— Ну, куда мне сейчас?
— Адрес точный — на все четыре стороны.
— Сволочи вы!
Молчание. Стояли и глядели в упор друг на друга. Федор держал на весу стул. Наконец Иван Мыш не выдержал, пошевелился, сопя, пряча глаза, стал натягивать пальто. Шуршала кожа. Федор не опускал стул, следил за каждым движением. Вячеслав опустился на койку, закурил, перебросил ногу на ногу. Впервые в этот вечер его лицо выразило удовольствие.
Выдвинут объемистый чемодан, из тумбочки полетели в него отвертки, коробочки, мотки проволоки, точильные бруски. Иван Мыш взял в руки лампу с тумбочки, стал вертеть в руках, разглядывать.
— Ребята, может, подобру… Подобру-то бы лучше…
Никто ему не ответил.
Федор поймал себя на том, что он вместе с Мышом любуется его лампой — подставка из небрежно обрубленного, отполированного куска дерева, легкий изгиб ручки, крытый черным лаком колпачок — и все это из обычного кухонного половника. Золотые руки…
Вдруг Иван Мыш с силой бросил лампу на пол:
— Сволочи! Вы — сволочи! Не лучше меня!.. Жалеть я должен! А меня жалеют? Вы же все на меня как на стенку глядите! Что я вам? Стенка! Вещь!.. А каким мне быть? Добреньким? Меня с детства никто не жалел. Даже мать… Брата жалела. Он — хиляк, я — здоровило, ему — пряник, мне — кусок хлеба! — Иван Мыш в ярости повернулся к Вячеславу: — Ты — первая сволочь, тебя я больше всех ненавижу! Красивым хочешь выглядеть! Ух, ненавижу!.. Дай, мол, спасу Слободко, пусть поглядит, какой я благородный… Чужими руками. Пусть себе эта дубина синяки да шишки получит, а тебе — добрая слава. Я ведь слышал, как Православный-то сказал… Слышал! «Порядочный человек!» Ты — порядочный, а Иван Мыш — мразь, вонючая тряпка, подтирай им чужое дерьмо, не стесняйся… На вот — сам утрись! И Православного вашего нисколечко не жалко! Утрись!
— Ты бы не ораторствовал лишка, а шевелился, — перебил его Федор..
— Успеешь. Ты тоже сволочь особая. Откуда в тебе-то спесь? Не умнее ж меня. Деревенщина! Лапотник! И везет же таким. Потычет кистью — все ах да ах! А чего? Тьфу!.. Стул взял. Огреть бы тебя этим стулом! Огрел бы — красная лужа осталась. Только страдать за дерьмо не хочется… Уйду, но вы вспомните еще Ивана Мыша. Еще, бог даст, оступитесь как-нибудь. Оступитесь, а там я уж вас подтолкну, легонечко, незаметно — косточки хрустнут…
Иван Мыш подхватил свой чемодан, отбросил носком сапога покалеченную лампу, в дверях обернулся:
— Я памятливый. Я не забываю!..
Через полчаса он вернулся — без пальто, без шапки, гимнастерка по-домашнему распояской. В какой-то комнате для него нашлась свободная койка.
— Хлопцы, раз не люб, чего уж… Только зря мы сволочили друг друга. И тут черт-те что наговорил я. Не верьте, вгорячах это… Право, совестно…
Вячеслав и Федор молчали, не обернулись в его сторону.
— Говорить не желаете?.. Ладно уж, снесу. Только я на вас зла не имею.
Он поднял разбитую лампу, оценивающе оглядел ее со всех сторон.
— Я ведь прост. Зла долго не держу. Вгорячах-то чего не случается…
Вышел, бережно прикрыв дверь, унес лампу.
— Хитрость гориллы, — проворчал Вячеслав.
Они долго не спали, ждали Православного, а он так и не пришел в эту ночь.
14День, как всегда, начался с того, что на возвышение взобралась (в который уже раз!) натурщица с распущенными льняными волосами.
На улице ночью выпал свежий снег, и все мостовые города белы, и загроможденная мольбертами мастерская заполнена чистым, покойным праздничным сиянием. Такое ощущение, что выпал не сотый в эту отходящую зиму снег, а лишь первый… Первый снег, умывающий землю! Первый снег, прячущий осеннюю усталость! Первый снег — тихое счастье, бывающее раз в году. Но, увы, подделка, фальшь — февраль за широким окном, первый снег в прошлом, как забытое детство.