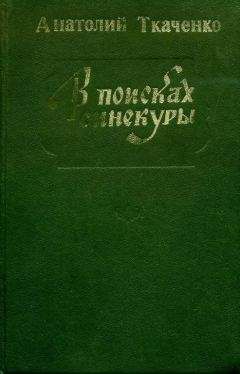Борис Пильняк - Том 3. Повести. Рассказы. Корни японского солнца
И известняки Европы обратили мои глаза на Восток.
И мой взор остановился на Японии, на корне солнца, ибо большою задачей казалось мне увидать то новое солнце, которое поднимается с Японии, с этой единственной не порабощенной белым человеком цветной нации, живущей на вулканах…
Впрочем, надо подробно.
Япония — племянница ассирийской и египетской цивилизаций. Осенью девятьсот двадцать пятого года я бродил там, в развалинах Анатолии и Палестины. Там только камень да пыль, да солнце, сжигающее все. Там даже камни не помнят о том величии цивилизаций, которые были здесь когда-то. Там пустыня, зной и умирание, — там даже не сохранились развалины. — Ассирийская и египетская цивилизации породили греко — римскую. Я был в Афинах. Там только камни говорят о прошлом эллинов, камни мрамора, выжженные солнцем дожелта, — но люди там уже не помнят отошедшего тысячелетья, торгуя правительствами и маслинами. — Древняя греческая культура, совместно с римской, породила европейскую. Есть утверждение, что и эта последняя — капиталистическая — идет к смерти, — что недолог тот срок, когда в Европе, так же как в Анатолии и в Афинах, только камни да археологи будут помнить о черчиллевской Европе.
Но за десятком тысяч километров на восток от Европы жила и живет страна, сверстница прабабки европейской цивилизации, той цивилизации, которая дохозяйничивает всем Земным Шаром. И теории Шпенглера — рушатся, — рушатся потому, что никому из европейцев неизвестная страна, лежащая на островах, не остывших еще от вулканической деятельности земли, страна, знающая в своей истории национально-монастырское затворничество на два столетия, как раз те, которые дали мощь Европе, — страна, которая, казалось бы, окончательно объизвестняковилась и, по Шпенглеру, умерла, — вдруг, неожиданно для мира, каких-нибудь шестьдесят лет тому назад бывшая в феодальном затворе, — вышла на мировую арену молодой, здоровой, сильной, бодрой, организованнейшей державой, — неожиданно для мира в каких-нибудь тридцать лет стала великой державой в том смысле этого слова, как его понимают европейцы, — европейски-великой державой. Тысячелетний быт, создавший свою особливую ото всех народов мораль, этику, эстетику, не оказался препятствием для западно-европейской конституции заводов, машин и пушек — и всего, что стоит за ними.
Большая цель — узнать, какою мудростью сочетались в японском народе старое и новое, как примирились они, почему, — какой корень солнца у этой страны.
… И еще. В феврале, когда я уезжал из России, всем моим путем лежали белые снега, глубокие пласты белого снега, — а золотая в солнце и синяя в море Япония встретила нас дозревающими апельсинами в зелени апельсиновых рощиц и белым цветом сливы. Полуденный час в Японии совпадает с третьим московским часом ночи, тем по библийскому преданию, когда не пели еще вторые петухи. Утомительно гоняться за луною н обгонять ее, — утомительно так быстро, как Великим Сибирским путем сматывать версты с запада на восток: часы показывают двенадцать дня, а на улице уже ночь, — а, если часы все время ставить по бегущим мимо станционным часам, то часы показывают пять вечера, а тебя всяческими свинцами клонит в сон, в двенадцать же ночи ты просыпаешься, точно это час дня. Ты стремишься на восток, луна уходит на запад, — и странно наблюдать, как ты съедаешь луну.
Разные могут быть цели бродяжеств. Существеннейшие из них — вот, две. Про первую уже сказано: узнать, какой корень солнца у этой страны, у этих стран. И еще вторая. Человеческий мозг, человеческие знания и тот мир, который раньше назывался духовным, а ныне на русском языке определяется только иностранными словами, — человеческий мозговой, духовный и душевный мир, чтобы не ржаветь, очень нуждается в том, чтобы его точили, как бритву: тогда он, не в пример бритве, делается мягче, точнее, правильней. И очень хорошими оселками для бритвы мозга, глаз и раздумий (тех, когда думаешь уже не мозгом, а, быть — может, иероглифами) — есть путешествия в пространства, никак не менее значимые, чем путешествия в книги и во время истории. Не для Японии, а для себя я поехал в Японию, взяв ее за тот оселок, на котором хотел я поточить самого себя, — в пространствах, глазами, раздумьем, — на том обрыве, где Азия вулканами Японского архипелага обрывается в Великий океан, в том рве, где сшиваются две величайшие культуры, все предопределяющие культуры Земного Шара — восточная и западная, — где западная культура прет и с востока, с Америки, а восточная, рассыпаясь в песках пустыни Шамо, обрывается в Тихий океан. Учиться — по-японски — обдумывать старину.
3. Япония — для меня
… Там на шве двух культур, на обрыве, которым — вулканами — обрывается Старый Материк в Великий океан, — за несколько дней до моего отъезда из Японии — была такая ночь. Нас было пятеро: Ольга Сергеевна, замнаркомпуть Серебряков со своим секретарем Шубом, я и чиновник японского министерства железных дорог Яманака-сан. Днем мы уставали, железной дорогой, автомобилем: к тому, чтобы приехать в Атами, к минеральным источникам, на курорт, поместившийся под горою у самого берега океана, у самых волн. В отеле было пусто, кроме нас японствовала семья японцев. В сумерки мы ходили в минеральные ванны, фотографировались, обедали. Вечером мы ходили в соседний городок, бродили по улочкам, покупали кисточки, которыми пишут. Оттуда порешили пойти берегом моря, вошли во мрак деревьев, в каменистые тропинки, повисшие над обрывами, в заборчики из кротегусов, в шум океана над обрывами. Так мы шли с час. Становилось все темнее, глуше, отвесней, тесней и каменистей, — океан внизу уже не шумел. Сначала мы подозревали, а потом стало ясно, что мы заблудились. Все же мы шли камнями тропинки. И впереди тогда мы увидали огонек, в густой чаще деревьев. Мы подошли к лесному домику. Яманака-сан утвердил, что мы заблудились, поднявшись в горы, к леснику. Лесник дал нам бумажный фонарик на палке, новую указал тропинку, — и еще добрых часа два мы шли до нашего отеля. Отель глубоко спал. Мы были утомлены самой настоящей усталостью, той, от которой надо сейчас же валиться в сон, и, если не свалишься, можно будет еще часы сидеть, за счет уже нервов. Нам выпало второе. Шуб и Яманака-сан заснули. Мы же втроем засели у меня в номере. На столе стояли незнакомые, очень пахучие цветы (от которых на другой день у меня болела голова). Была очень черная и тихая ночь. Во мраке ворчал океан. Цепь огней железной дороги уходила в горы. Было очень тихо. И мы, трое россиян, на берегу чужого моря, в чужой стране, среди непонятных людей — были той ночью одни-одинешеньки, мы устали самой будничной усталостью, нам было немного скучно, и нам не хотелось спать в этот заполночный час. Все в мире относительно и все правомочно. И тогда мы выдумали игру. Мы взяли почтовую бумагу и стали писать письма так, чтобы я, написавший, передал мое письмо соседу, который, не читая его, надписывал адрес на конверте. Потом, написав десяток таких писем, положенных уже в конверты, мы прочитали их. Одно из моих писем пошло в город Тетюши, заведующей школой второй ступени, которую я никогда не знал, которую никогда не узнаю и которой, быть-может, и нет совсем, ибо в Тетюшах не заведующая, а заведующий. Я писал:
Брат мой.
Я сижу сейчас в провинциальном отэле на берегу Тихого океана, который плещется за окном, — в Японии, в глубокой полночи. Мне скучно, тихо и одиноковато. И одно я хочу сказать сейчас, далекий мой, неизвестный брат, — то, что все на этом свете относительно, что и мне сейчас надо ложиться спать и хочется есть, как это делается с каждым человеком.
Привет тебе, брат мой, от Страны Корней Солнца, — а мне: покоя и доброго сна.
Очень дурманно пахнули незнакомые цветы. У меня в ту ночь было такое настроение, которого в жизни нормальной у меня не бывает, которое в детстве возникало у меня при чтении английских романов, при описании английских сочельников, — хоть и была за домом майская ночь и ворчал теплый океан… Как велик Мир! — как древен Мир! — и — как мал и молод Мир… все относительно, все правомочно и — все проходит. Все проходит, потому что вот о той ночи в Атами я пишу уже в Москве, в дни первых наших метелей, когда за окном падают белые снеги. Тогда же, в Атами, совершенно невыспавшиеся, ехали мы на утро, туристами, в Одавара, чтобы там пересесть на автомобиль и ехать к озеру Хаконэ, около которого я уже был.
Одна из редакций японских журналов просила меня написать им, какой роман я написал бы, если бы я был японцем. — Я долго не мог собрать своих мыслей, чтобы написать об этом.
Прежде, чем стать японским писателем, то-есть человеком, мыслящим образами и творящим образы, — я должен был бы стать японцем. Я — японец — должен был бы познать быт; философию, науку и историю Японии, — и я должен был бы установить свою точку зрения на искусство литературы, которых может быть множество. Я — Пильняк — в дни моего пребывания в Японии растерял очень многие мои точки зрения, в частности на искусство, в частности на литературу, — ибо у меня была точка зрения европейца, когда я думал, что искусство литературы существует к тому, чтобы формовать человеческие эмоции путем отображения жизни подлинной и исторической, в худшем случае — такой, которой нет, но которая может быть: то искусство, которое я увидел на Востоке, мне указывает — во-первых, что все в этом мире правомочно, а, во-вторых, на то, что в этой правомочности нет никаких причин отдавать предпочтения искусству европейскому перед искусством Востока. Они, искусства Востока и Запада, равнозначимы и равнопрекрасны: цели их одни и те же, пусть средства разны, — средства, ибо европейское искусство упирается во время и с историей времени старится, стремясь гулять в ногу с эпохами, — ибо искусство Востока отказалось от времени, стало над временем, построенное на условностях красоты, высоких чувств и красивости. В этом месте я потерял свою точку зрения на искусство литературы.