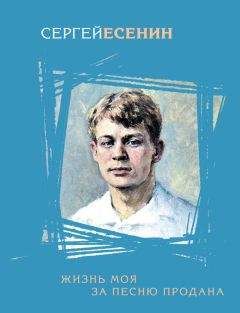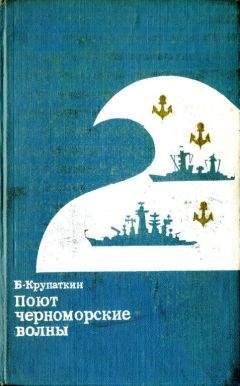Константинэ Гамсахурдиа - Похищение Луны
Стрельба из винтовок участилась.
Чугунная машина, похожая на бегемота, стояла посередине дороги; кругом визжали пули. Все сильнее горячился Арабиа. Удерживая его левой рукой, Арзакан время от времени стрелял.
Он уже выпустил около десяти пуль. У него оставалось не более семи патронов.
Привязав Арабиа на короткий повод, он пролез меж огромных колес машины и залег под ней.
Лежал, припав к земле, тревожась, как бы пуля не попала в коня.
Слева стрельба прекратилась; по-видимому, у нападавших вышли патроны.
Зато справа пули сыпались градом.
Маузер Арзакана молчал.
«Ну-ка, подойдите сюда, если хватит духу!» — злобно думал юноша. Решено: он всадит в них шесть пуль, седьмую же прибережет для себя.
Вдруг видит: на расстоянии ружейного выстрела спешились три тени, отвели лошадей в кустарник, влево от шоссе.
— Не подстрели коня, бичо![28] — вырвалось у одного из трех.
«Не подстрели коня?» — Сначала Арзакан подумал, что его обманул слух. Но нет, он ясно слышал эти слова. И обрадовался.
Вдруг все трое легли на шоссе и подняли стрельбу. Арзакан затаился в своей засаде, держа в руке маузер со взведенным курком.
Те снова встали. Сделав перебежку, падали на землю и стреляли.
Машина словно ожила, гудел чугунный бегемот.
Арабиа метался, силясь подняться на дыбы.
Трое внезапно прекратили стрельбу и пропали из виду.
Арзакан всмотрелся в темноту и вдруг увидел их почти перед собой: они смело приближались к машине.
— Должно быть, сдох, — сказал по-абхазски верзила, шедший посередине.
— А может, патроны вышли, потому и молчит? — заметил другой. И в тот же миг Арзакан выстрелил в среднего, того, который сказал «Сдох».
Схватившись за живот, верзила упал на колени посреди дороги. Но пока Арзакан вылезал из-под машины, товарищи успели оттащить раненого в кусты.
Выйдя из прикрытия и сделав несколько шагов в сторону кустарника, Арзакан еще выстрелил. Прислушался. Полная тишина.
Вернулся и вскочил на Арабиа.
Это случилось в прошлую субботу.
Дома Арзакан ни словом не обмолвился о происшествии.
И все же на другой день весь Окуми знал об этом.
Кац Звамбая в глубине души гордился тем, что его сын вышел молодцом из такой опасной схватки.
И все-таки он не мог простить Арзакану, что тот вступил в колхоз. Ведь неизбежно возникнет вопрос о разделе отцовского хозяйства, и тогда весь дом, «полная чаша», пойдет прахом!
Арзакан терпеливо разъяснял старику, что для него же будет лучше, если он тоже войдет в колхоз.
Вскоре после нападения, за обедом, отец и сын поспорили.
Первый раз в жизни Арзакан позволил себе нагрубить отцу.
Кац рассвирепел, сбросил на пол посуду, толкнул ногой стол и опрокинул его. Стол ударил Арзакана по ноге, но он даже не охнул. Закусив губу, встал и, сердитый, вышел во двор.
Это молчание сына еще больше взбесило Кац Звамбая, и всю свою злобу он обрушил на жену.
Хатуна ни разу в жизни не осмелилась не только поперечить в чем-нибудь мужу, но даже назвать его по имени.
— Успокойся, — говорила она со слезами на глазах, подбирая посуду и ставя ее на место.
— Убирайтесь оба из моего дома! Идите пасти колхозных коров и знайте, что даже иголку не позволю я вам унести! — кричал Кац Звамбая, стуча кулаком по столу.
На другой день после этой ссоры Арзакан сказал матери, что уезжает в Тбилиси учиться.
Хатуне тоже не нравилось, что Арзакан вступил в колхоз, но тем не менее она держала сторону сына.
— Лишь бы ты был жив и здоров, а остальное как бог даст, — говорила мать, — и дом, и земля, и скот. Лишь бы тебя сохранил святой Георгий Илорский, а буйволов и коров пусть отдаст волкам на растерзание, если такова его воля.
Ночью Арзакан видел, как мать бесшумно встала с постели и, опустившись на колени перед иконой, истово молилась:
«Всемогущий святой Георгий! Сохрани моего Арзакана от пули, от злого языка, от завистливого взгляда и наговора! Семерых сыновей отняла у меня смерть, оставь же мне, святой Георгий, старшего сына…»
Проливая горючие слезы, жарко просила:
«Пресвятая богородица Мария, ты сама мать и знаешь, как горько терять сына. Мой Арзакан еще ребенок, и если он в чем согрешит перед тобой, прости и помилуй моего Арзакана, богородица Мария!»
Кац Звамбая обрадовался, узнав, что Арзакан уезжает из Окуми. Он решил, что парень струсил и потому собрался в Тбилиси.
Вообще-то Кац не любил этот город.
«Газеты, книги, — говорил он, — все идет оттуда. В Тбилиси живут безбожники, социалисты, все эти разрушители порядка и семейных устоев. Разве может быть здоровая семья, если женщине дали мужские права?»
Вот почему не любил Кац Звамбая Тбилиси.
— Арзакан хочет попросить лошадь у Мачагвы Эшба для товарища, который ждет его в Зугдиди, — сказала Хатуна мужу. — Из Зугдиди они поедут верхом до Сенаки.
— Мачагва не откажет мне в просьбе, но зачем же Арзакану вести лошадь порожняком, когда с ним может поехать Келеш? — ворчал старик.
Но Арзакан почему-то заупрямился и не захотел взять Келеша.
Кац Звамбая уступил. «Лишь бы убрался отсюда на время коллективизации, а там пусть хоть на спину взвалит себе лошадь Мачагвы!» — рассуждал он сам с собой.
Мать привыкла к отлучкам Арзакана, ее путало лишь то, что он отправлялся в путь в понедельник.
Со слезами пекла она ему на дорогу пирожки.
— Солнышко мое, радость моя, не езжай в понедельник, — молила Хатуна, разделывая тесто тонкими, как газыри, руками. — Сам знаешь, на дорогах неспокойно, и на селе много у тебя недругов. Дурные сны мучили меня и вчера и позавчера.
Сын, нахмурившись, чинил плетку и с горечью слушал причитания матери. Даже такую маленькую ее просьбу не может он выполнить. Ведь он обещал Тамар, что доставит ей лошадь к четырнадцатому августа!
— Ну, какая беда, мама, в том, что завтра понедельник? Какие теперь понедельники? Пора забыть об этом.
Но разве можно ее убедить? Лицо матеря горько собиралось в морщины, и у Арзакана щемило сердце: казалось, сама старость заклинает его.
…Наступил понедельник.
Ранним утром вышел Арзакан к реке и загляделся на кипевшую в ней жизнь. Смотрел, как резвились, гоняясь за мошкарой, стайки головастиков, как расходились по воде маленькие круги.
Солнце уже взошло, но его лучи с трудом пробивались через густую листву. И в тех местах, где играли солнечные блики, из воды высовывались рыбки.
Безмолвное ликование, с каким миллионы речных обитателей приветствовали солнце, поразило Арзакана.
Время от времени проплывали лососи. Величаво проносились они через толпы головастиков, бросавшихся от них врассыпную.
Жизнь природы всегда повергала Арзакана в раздумье. Он вспомнил детство. Образ босой Дзабули встал перед ним: вот здесь Арзакан и Дзабули искали разноцветные камешки, копались в мелкой заводи, ловили рыбу крошечными сетями. А вот под тем старым вязом прятались они в полдень, играли в «мужа и жену» — Арзакан и Дзабули…
Мать окликнула его, позвала к столу.
Хатуна упросила сына напоследок, перед отъездом, позавтракать вместе с отцом.
— Хоть и сильно он обижен, но все же болеет душой за тебя, — шептала она. — После субботнего происшествия ночей не спит, грозится перебить твоих врагов.
За завтраком старик заставил сына выпить два стакана водки. Арзакан молча ел хачапури,[29] любовно глядел в глаза матери, порой угощал малышей и ласкал их.
А выйдя на крыльцо, почувствовал, что двигается как в тумане, и не мог понять: от водки ли это ощущение или от тоски? Начинало казаться, будто ему предстоит далекий, незнаемый путь, будто навсегда прощается он с этой прекрасной магнолией, растущей перед домом, с этим тополем, орешником, яблоней, с пышными султанами инжирного дерева — бесстрастными свидетелями его детских лет.
Взглянул на инжирное дерево, и вспомнился Тараш Эмхвари. И сейчас же встал перед ним образ Тамар.
Тамар поедет с ним в Тбилиси. В этом городе, думал он, все решится, и после этого он снова примирится с Тарашем Эмхвари.
Да и чем, в сущности, провинился перед ним Тараш? Ни разу не позволил он себе ни одного обидного слова, всегда выказывал к сыну своей кормилицы неизменную сердечность.
Взгляд Арзакана упал на стадо, рассыпавшееся по пастбищу.
«Как знать, может, и отца собьют с толку, и он, как те злобные кулаки, заколет этих чудесных, работящих животных? Ведь эти бычки — Цабла, Лома и Гвиниа, — все они питомцы Арзакана. А тот черномордый Квишора и выкормлен им».
И где-то в тайниках своей души он уловил нечто вроде привязанности собственника к скотине. «Нет, — тут же утешил он себя, — это не привязанность собственника, это просто любовь к живым тварям. Я ведь всегда любил животных».