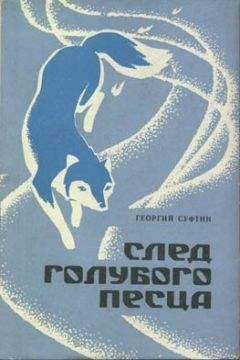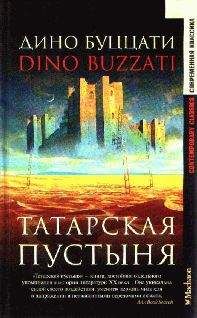Андрей Платонов - Фабрика литературы
Ограничимся одним примером адмкритика — т. Ермиловым. Никакой литературной критической работы — в ее точном смысле — в его статье «Об ошибочных взглядах Литературного критика» нет. Но там есть работа административная. Ермилов пишет свою рецензию о статье Платонова «Пушкин и Горький» спустя два с лишним года после опубликования последней, потому что Ермилов, как администратор, учел литературно-организационную конъюнктуру. Далее,— цитата из любого произведения, если ей пользуются неумелые или злостные руки, всегда походит на членовредительство; но у административного критика как раз часто бывает нужда в членовредительстве цитируемого им автора, иначе в чем же смысл работы адмкритика; именно так цитирует Ермилов статью «Пушкин и Горький»: служебную иллюстрирующую фразу текста он цитирует, основные же положения опускает; адмкритик выдергивает из человека ноготь и хочет охарактеризовать им всего человека. И последнее соображение — непреодолимое для адмкритика: всякий критик обязан быть художником органически, иначе он никогда не соединится с предметом своей работы и всякое его исследование роковым образом будет давать ложные или бесплодные результаты. Администратор вовсе не исследователь и не руководитель: он берет «предмет» не за душу и не за руку, а за ухо. Администратор же хотя и думает про себя, что он полный и ученый хирург, все же не является им, потому что между хирургией и поркой есть разница, невзирая что обе они (нрзб.— Н. К.).
Однако отвечать т. Ермилову, оспаривать положения его рецензии нет расчета, потому что мы с ним люди разных областей деятельности, и, очевидно, ни один из нас не является специалистом для другого. Это не значит, что я не уважаю административную деятельность. Наоборот, я ее уважаю настолько, что, не чувствуя способности к ней, не занимаюсь ею. Этому примеру могут следовать и работники других областей, например, административных. Литературная критика — область работы не менее достойная, чем административная, поэтому критика требует к себе такого же отношения, как, допустим, я отношусь к административным мероприятиям, по неспособности не занимаясь ими.
А. ПЛАТОНОВ
В редакцию «Литературной газеты»
В редакцию журнала «Литературный критик»
Просьба напечатать мое нижеследующее письмо.
В последнее время — уже в течение полугода или более — моя фамилия часто употребляется разными литераторами, которые, стремясь доказать свои теоретические положения, ссылаются на меня, как на писателя,— по любой причине и без особой причины. Убогость аргументации именем Платонова — очевидна. Поэтому я здесь не хочу вступать с этими людьми в какой-либо спор: у меня есть более полезная работа, чем употреблять те средства подавления и коррупции, которые применяют ко мне люди, считающие меня своим противником. Кроме того, я бы не смог употребить эти средства, потому что для того я бы должен превратиться из писателя в администратора. Например, я бы не смог (да и не стал бы, если даже мог) ликвидировать напечатанные и разрешенные к опубликованию книги[13], как поступили недавно с моей книгой, не стал бы зачеркивать каждое слово в печати, если оно не содержит резкого осуждения Платонова, и прочие подобные поступки я не позволил бы себе совершить и отговорил бы от таких поступков других людей, активность которых опережает их разумение.
В заключение я приведу слова Гоголя, которые в точности излагают мою мысль и просьбу: «Молодые чиновники подсмеивались и острили над ним во сколько хватало канцелярского остроумия, рассказывали тут же пред ним разные составленные про него истории... Только, если уж слишком была невыносима шутка, когда толкали его под руку, мешая заниматься своим делом, он произносил: оставьте меня».
А. ПЛАТОНОВ
15/V — 1940 г.
<А. Платонов — В. Ермилов>
В. Ермилов напечатал в «Литературной газете» № 45, статью «Традиция и новаторство».
В этой своей статье В. Ермилов делает традиционную, ставшую шаблонной ссылку на «некоего» Ф. Человекова, чтобы доказать правильность своих прогрессивных взглядов и (упрекнуть «этого» Человекова, обладающего, к «сожалению», отсталым мировоззрением,— текст, вычеркнутый А. Платоновым.— Н. К.) показать ошибочную ничтожность мировоззрения «этого» Человекова — «окрошки, в которой плавает и остаточек идеи Ф. М. Достоевского о том, что...».
«Маяковский, — пишет Ермилов, — прекрасно видел и чувствовал новое отношение жизни к новаторству, чего, к сожалению, нельзя сказать о некоторых наших литераторах. Например, Ф. Человеков...».
Определение «новое отношение жизни к новаторству» — пустое и отвлеченное, потому что если бы вся «жизнь» сразу хорошо и сразу приветственно относилась к новаторству, то само новаторство было бы неощутимым состоянием и физически ненаблюдаемым: новаторство есть разница одного с другим, а не равенство. Поэтому не следует писать столь поверхностно-традиционными словами о новаторстве. Что касается Человекова, то он, до некоторой степени тоже способен прекрасно чувствовать «новое отношение жизни» к нему. Например, поскольку Человеков не новатор, то жизнь, в лице Ермилова, к нему относится плохо. Очевидно, следовательно, что к новаторам Ермилов относится хорошо, приветственно и одобряюще, — тем более, скажем, к такому новатору, как Маяковский. Эту очевидность надо, однако, проверить, потому что очевидность бывает и образом истины и покрывалом, стушевывающим ее, истину. Далее (позже — стилевой вариант Платонова. — Н. К.), в порядке обмена опытом и взаимного просвещения, мы укажем Ермилову, что новаторство, даже у нас и даже со стороны некоторых деятелей культуры, не всегда признается за полезное явление.
Поводом для рассуждения Ермилова послужила статья Человекова о Маяковском (журн. «Лит. обозр.» № 7). Мы здесь вынуждены привести то же место статьи, которое цитирует Ермилов.
[«Новое сознание, так же как и новое чувство, производится не автоматически, а рождается с огромным усилием, в этом-то все и дело, в том числе и дело поэта-новатора, такого, как Маяковский. И здесь же, в трагической трудности работы, в подвиге поэта, заключается, вероятно, причина ранней смерти Маяковского. Подвиг его был не в том, чтобы писать хорошие стихи — это для таланта поэта было естественным делом; подвиг его состоял в том, чтобы преодолеть косность людей и заставить их понимать себя — заставить не в смысле насилия, а в смысле обучения новому отношению к миру. ...преодоление же косности в душах людей почти всегда причиняет им боль, и они сопротивляются и борются с ведущим их вперед. Эта борьба с новатором не проходит для последнего безболезненно — он ведь живет обычной участью людей, его дар поэта не отделяет его от общества...
Подвиг Маяковского состоял в том, что он истратил жизнь, чтобы сделать созданную им поэзию сокровищем народа».][14]
Это написал Человеков. А Ермилов понял и объяснил его таким образом:
«Тут утверждается извечная трагичность новаторства... которая неизбежно ведет и к трагической жертве. Устанавливается «закон», в силу которого «люди» вообще всегда и везде «сопротивляются и борются с ведущим их вперед»... Трагичность новаторства выдвигается как постоянная, вечная норма, игнорирующая тот факт, что наша действительность устанавливает новые нормы! Нашу литературу, которая пытается раскрыть новые закономерности, уводят...» и тому подобная, всем известная механическая запись на идеологической пленке.
«Извечная трагичность», «Нашу литературу... уводят», «Устанавливается Закон», «Игнорируется тот факт» — эти слова, написанные не столь громогласно-шаблонно и примененные к делу, могли бы иметь смысл. Здесь же они бессмысленны, потому что Человеков писал только о поэте Маяковском, только о его одной поэтической и человеческой судьбе.
Ермилов же обобщает и растягивает чужую мысль, написанную по конкретному, единичному поводу, до масштабов «закономерности», и от этого в руках Ермилова чужая мысль уродуется, искажается, прежде чем сам успел или захотел понять ее. Нельзя понять другого, если сам постоянно переполнен собственным благоприобретенным и благополучным мнением, если постоянно имеешь некое железное намерение крошить любого, непохожего на себя (очевидно, «тебя». — Н. К.), если прячешься в ложный вымысел от беспокоящего огня действительности.
Смерть Маяковского есть трагическое событие. Но лишь безумец или человек, срочно нуждающийся в перевоспитании, обвинит писателя, заявившего об этом общеизвестном событии, что данный писатель клевещет на современное советское общество, устанавливающее новые нормы, что этот писатель проповедует, дескать, необходимость и неизбежность жертвенной жизни, что он, в сущности, чуть ли не сознательный организатор трагической жизни и самоубийства, как общей судьбы новаторов, что он возвращает нас к архивной теории о толпе и героях и прочей «окрошке» восьмидесятых годов.