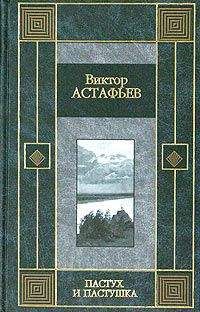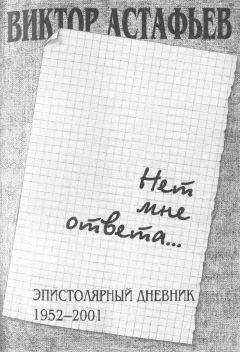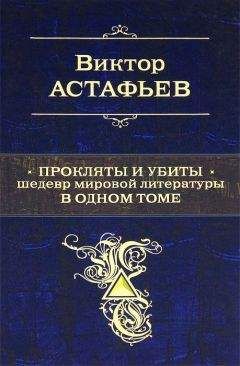Виктор Астафьев - Звездопад
Пальто это меня доконало!
Опытные солдаты заводили знакомства с поварихами, а я по молодости лет подрулил к электричеству. Не потому, что тянуло меня к технике, а просто так, с отчаяния.
Капа усаживала меня в уютное кресло, накрывала одеялом, н меня начинало греть со всех сторон, в особенности из-под низу.
— Как на русской печке! — шептал я истомно. Капа, черноглазенькая, быстроногая девушка, управлявшая множеством непостижимой техники, которая светилась синими и красными лампами, моргала, жужжала, чихала и тикала, пищала и верещала, Капа сидела за столиком в бывшей когда-то учительской этаким властным колдуном, этакой владычицей нездешнего царства, делая непринужденные, размашистые росчерки в карточках больных.
А я травил:
— Вот знаешь, Капынь, вот так же вот сидишь, бывало, на печке, на русской, задницу печешь, пот по всем членам текет, в трубе ветер воет: у-у-у-у-у! У-уууу — ну чисто волк и волк! И такая жуть кругом, аж тараканы со страху во все дырки и отверстия лезут, и так ще-окотно!..
Капа поднимает веселую кудрявую головку от бумаг и, обнажая в улыбке беличьи зубки, грозит мне пальцем:
— Будешь хулиганить — отключу!
Э-э, нет, мне не хочется, чтобы меня отключили, — самую уютную, самую теплую процедуру прописала мне Kaпа «по блату», из явной ко мне симпатии. Вот возьму тоже, да как проложу ее домой, на глазах у Лиды и офицерика того, так будут знать! Вот только пальто летчицкого у меня нету, даже и обмундирования никакого нет. Не пойдешь же в одеяльной юбке девушку провожать…
— Хочешь, Капынь, стишок почитаю? — предлагаю я и удивляюсь самому себе: ну почему это вот с Капой могу трепаться как угодно, а как Лиду завижу — все заколодит: и ум, и язык, и все-все!
— Ну, где стишок-то? Давай! — Капа отложила ручку, кокетливо изогнула шейку, ждет.
— А-а, стишок-то? — Я шевелюсь в теплом кресле, устраиваюсь удобней и начинаю: «У лукоморья дуб срубили, златую цепь в торгсин снесли, кота на мясо истребили»…
Капа давно тут работает, всякого народу навидалась и наслушалась всего, так что все эти штучки-дрючки знает. И я декламирую ей стих серьезный, про любовь, единственный стих, который я знаю, вычитал в одной потрепанной, старинной книжке, когда лежал в больнице, переломив ребро в драке с городской шпаной:
Я не любил, как вы, ничтожно и бесстрастно,
На время краткое, без траты чувств и сил…
Но к этой поре меня уж так размаривало, так во мне слабело и распускалось все, что язык мой начинал дрябнуть, заплетаться, и я ронял голову на грудь, погружаясь в обволакивающий мягкий, бархатный сон, при котором нет никаких сновидений, даже война не снится.
Так, кажется, ни разу и не дочитал я Капе стихотворение до конца. Да, по правде оказать, я до конца его и не помнил.
Я заметно поправился за это время, но рана на руке не заживала. На каждом обходе лица врачей делались все озабоченней и озабоченней. Они вертели мою руку, кололи ее иглой, заставляли шевелить пальцами. Я напрягался, но ни один из пяти пальцев даже не вздрагивал и боли от иглы не было. «Хорошо», — говорили врачи и уходили. Но я уже знал, что, если врачи говорят «хорошо», это значит плохо. Так оно и вышло.
Как-то днем появилась в нашей палате Лида и прямо направилась ко мне:
— Больной, будем готовиться к операции.
— К какой опять?
— К обыкновенной.
— Так я готов. Режьте! Чего вам еще? Клизму мне не надо. Брюхо у меня крепкое. Я не какой-нибудь офицер-интеллигентик…
Последние слова я проговорил совсем почти тихо, но Лида услышала их и уничтожающе сощурила глаза.
— Когда на операцию? — заторопился я.
— Завтра, в одиннадцать. — Она повернулась и ушла, а я закрыл лицо рукой и упал на подушку.
Я боялся операции. Я боялся наркоза. Я боялся темноты.
А тут еще процедурная сестра Паня, лучезарно улыбаясь, вплыла в палату белой павой, неся кружку с наконечником, как стеклянную хрупкую вазу с вареньем для милых деток.
— Кто-то последние известия слушать будет! — возрадовался Рюрик, Ну что вот ты с ним сделаешь, если он такой веселый? Я показываю ему кулак: «Ну, погоди, гад, погоди!»
Лежу вниз лицом. Паня надо мной с кружкой стоит и, как ни в чем не бывало, с ранеными болтает о том о сем. Из ее, хоть и осторожных, окольных слов, между прочим, сделали мы вывод, что дела у Афони Антипина в изоляторе неважные, и даже очень. Гусаков осунулся за эти дни, почернел, неразговорчив сделался.
Так бы оно, может, и кончилось все незаметно, с клизмой-то, но Рюрик — это ж человек какой? Он уж, как говорится, не даст молоку прокиснуть.
— Ну, что слышно по радио, Михей?
— Наша берет! И рыло в крови!
— Вон ему маленько охладительного оставьте, — кивает головой Рюрик на койку моего соседа. — У него все пече.
Сосед починялся, бумажник чей-то кожаный за сахар латал, и взвыл горестно, бросив работу:
— И шо она, та кобылка усе грае? Шо вона така вэсела?!
В ту ночь я почти не сомкнул глаз. Несколько раз ко мне подсаживался Рюрик, давал докурить и со вздохом уходил на свою кровать.
К одиннадцати часам я крепко-накрепко (чтоб не развязали) закрутил бинтом кальсоны и прошел в операционную. Там была только Лида. Она помогла мне снять рубаху, глянула на подвязанные кальсоны и ничего не сказала, а лишь подсобила забраться на холодный операционный стол и прикрыла меня до пояса простыней.
Противная мелкая дрожь возникла внутри меня, дошла до губ, и меня начало колотить так, что стол или на столе что-то забрякало. Хорошо, что Лида возилась у кипятильника с инструментами и не видела этого. Из соседней комнаты с поднятыми вверх руками появился хирург и отдал Лиде какую-то команду. Она наклонилась ко мне с просящей улыбкой:
— Будем ровно и глубоко дышать, да?
Я тряхнул головой, и тут же на мое лицо обрушилась маска. Послушно, как обреченный, я вздохнул и сказал:
«Раз!» Потом: «Два!» Потом: «Три!» Когда дошло до ста двадцати, откуда-то издалека донесся убаюкивающий голос Лиды:
— Родненький, спи! Родненький, спи… Затем голос главного хирурга:
— Почему больной не снял белья? И еще чей-то:
— Глядите, как он подштанники-то бинтом прикрутил — не развязать.
И снова издали, и все тише, тише:
— Родненький, спи… Родненький, спи…
Должно быть, я плохо спал, потому что, когда очнулся в палате, на мне оказалась разорванная рубаха и здоровая рука моя прикручена была к кровати.
Возле меня сидел Рюрик.
— Ну, здорово, Мишка-Михей! — ухмыльнулся до ушей Рюрик.
— Здравствуй, Урюк! — оказал я ему с детской радостью.
Урюком я его еще никогда не называл, и Рюрик нахмурился, считая, должно быть, что я все еще не в своем уме.
— Отвяжи руку, — попросил я Рюрика. — Затекла. Бушевал я, что ли?
— Ой, бушевал! — откручивая накрепко привязанный ремень, помотал головой Рюрик. — В основном матом всех крыл. Врачиха тут, а ты кричишь: «Что фашисты, что доктора — одинаковы. Все кровососы!»
— Да ну?
— Пра! Оно, конечно, не в уме ты был. Но только уж и безумному такое непростительно. Я окончательно убедился, что против сибиряков по мату никто не устоит.
— Я что? Вот у меня дед был, тот колена загибал, так уж загибал!.. Вороны с неба валились, кверху лапами! Как даст, так и готово!.. — Мне так хотелось говорить, вспоминать что-нибудь из жизни смешное. Но Рюрик решительно пресек мое опьянелое озорство:
— Колена! Загибал! — передразнил он. — Посмотрел бы ты, как девушку ту загибало!..
— Какую девушку? — похолодел я и цапнул под одеялом — бинт на месте. Кальсоны прикручены будь здоров.
— Ту самую! Она около тебя и так и этак, родненьким называла, а ты… Ребята в хохот. А она: «Человек, — говорит, — в невменяемом состоянии, и смеяться, — говорит, — над ним подло… Подло! Подло!..» — И еще ногой топнула. Ну, я тут одному костылем по кумполу отоварил. В дверь заглядывал… В общем — концерт!
Я не успел ничего оказать Рюрику в ответ. Дверь в палату открылась, и стремительно влетела в палату ОНА. Губы у нее строго поджаты, лицо силилось быть суровым, но глаза смеялись.
— А ну, где тут этот гренадер? Где этот негодник, поносивший советскую медицину? Дайте мне его, я с ним за всех рассчитаюсь.
Я закрыл глаза рукой и еще одеяло на себя натянул. Но Лида приоткрыла одеяло и стала отнимать руку от лица, разжимая пальцы один за другим.
— Видали вы его, прячется, устыдился! Нет, вы поглядите, поглядите на меня, — все тем же строгим голосом, в котором бился смех, требовала она.
И я поглядел. И навстречу мне плеснулось столько яркого света, что я зажмурился и сказал едва слышно:
— Лида!
— Что, родненький, что?
— Лида! — повторил я еще тише и увидел, как Рюрик подается из палаты, прихватывая с собой всех, кто способен двигаться: создает условия. От этого я вовсе смешался, и наступила долгая пауза.