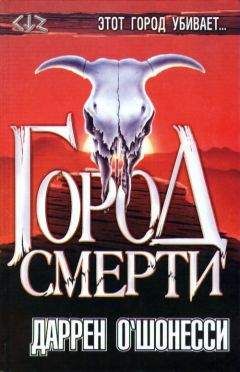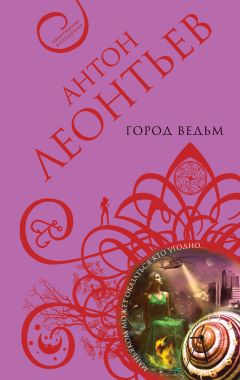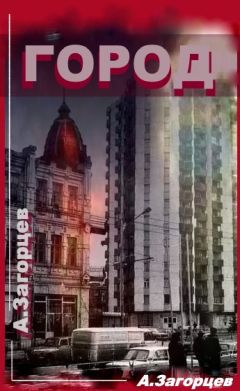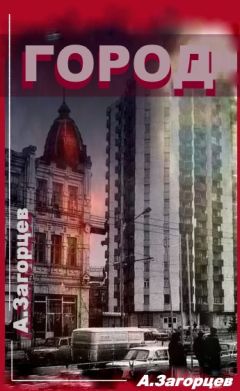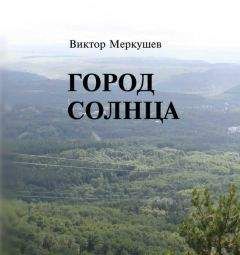Юрий Герман - Рассказы о Дзержинском
— Да месяца через два приеду.
— И отлично. Теперь насчет Янушевича и его подголосков. Их надо всеми способами разоблачать перед крестьянами. Пусть народ видит, что это продажные шкуры… Ну, мы об этом не раз говорили. И последнее вот что: пишите корреспонденции в газету нашу. Обо всем. Все интересно. Слышишь, Ян?
— Ладно, — сказал Ян.
— И ты, Маслов, пиши.
— Обязательно.
Дзержинский сел в коляску. Потом, вспомнив, добавил:
— И Феликса нигде не спрашивайте. Не найдете. У меня есть партийная кличка — Яцек. Запомнили? Будете искать Яцека.
— На поезд опоздаем, — напомнил кучер.
— Что ж тебя твой Стась не провожает? — спросил Ян.
— А что ему, — сказал Дзержинский, — его в гости отправили.
Он помахал на прощание рукою. Ребята опять набились в коляску. Уже совсем стемнело. Лошади бежали рысью, огни села делались все меньше и меньше, потом совсем исчезли.
— Ну, ребята, вылезай! — сказал Дзержинский.
— Так и не приедете? — опять спросил тоненький голосок.
— Не приеду. Приезжайте вы ко мне в Вильно. Дорогу-то домой найдете?
— Найдем.
Вылезли. Дзержинский повернулся в коляске и долго глядел вслед маленьким фигуркам. Ребята часто оглядывались, махали ему руками.
— Живите веселее! — крикнул Дзержинский.
— Е-ее!.. — донесло эхо в ответ. Кучер хлестнул коней.
Дзержинский накинул на плечи старую, потертую гимназическую шинель, надвинул фуражку на глаза и задумался. Во тьме над белеющей дорогой с жалобным и длинным криком пронеслась какая-то ночная птица. Легкий ветер прошумел над бесконечным полем. Кучер запел:
Все пташки-канарейки
Так жалобно поют…
— Ох, жизнь, — вдруг с тоской в голосе сказал он, — жизнь окаянная…
КОФЕ С ПИРОЖНЫМИ
Они встретились в Варшаве, в парке, в морозный зимний вечер и сразу узнали друг друга, несмотря на то, что не виделись много времени.
Поцеловались и смущенно помолчали. Никогда раньше они не целовались.
— Вот так встреча, — наконец сказал Россол.
— Да уж, — ответил Дзержинский.
Они стояли в широкой аллее парка, над ними свешивались ветви деревьев, покрытые инеем, их толкали люди, бегущие на каток и с катка. Внизу, на озере, гремел духовой оркестр, празднично блистал изрезанный коньками лед, сквозь ветви деревьев были видны легкие и стройные фигуры конькобежцев.
— Что ты тут делал? — спросил Дзержинский.
— Смотрел. А ты?
— Я шел смотреть.
— Пойдем покатаемся, — предложил Россол.
— Нельзя. В таких местах можно легко наскочить на филера. Посидим тут.
Сели на холодную, обмерзшую скамью. За то время, пока они не виделись, у Россола ввалились щеки, глаза смотрели теперь жестче, злее, подбородок стал выдаваться вперед.
— Что с тобой, Антон? — спросил Дзержинский. — Ты похудел, изменился.
— Болен, — коротко ответил Россол.
— Чем?
— Чахоточкой, как говорит один мой знакомый фельдшер.
Россол усмехнулся, боком взглянул на Дзержинского и вдруг сказал:
— Я тебя очень люблю, Яцек.
— И я тебя очень люблю, — просто и спокойно ответил Дзержинский. — И у меня есть одно предложение тебе — угадай какое?
— Поехать в Италию лечиться, — грустно улыбнулся Россол, — или не верить врачам, которые все врут. Да? Это ты хотел сказать?
Но Дзержинский хотел сказать совсем не это. Поблескивая глазами, он предложил устроить пир в честь свидания друзей. Идет? В конце концов, один раз в жизни можно себе позволить небольшой пир. Черт побери, уже полгода он не ест досыта! И, кроме того, ужасно хочется кофе. Натурального черного кофе. Он так согревает и так поддерживает силы! Не правда ли?
Шли медленно, не торопясь, вспоминали Ковно, Вильно, тамошние фабрики, стариков сапожников, работу, юность.
Разговаривая и вспоминая, вышли из парка на улицу и остановились у кафе, которое показалось им недорогим.
— Сюда? — спросил Дзержинский.
— Сюда, — решительно ответил Россол. Дзержинский оглянулся: сзади было «чисто», как говорили в тех случаях, когда по следу не шел филер.
Россол отворил тяжелую дверь с цветными стеклами и первым вошел в низкое сводчатое помещение, в котором седой и благообразный швейцар снимал с посетителей пальто и шубы.
— Снимем пальто?
Швейцар уже вышел из-за загородки и стоял, готовый принять платье гостей.
— Снимем, — согласился Дзержинский.
Раздеваться было очень неприятно, куртка Дзержинского была подбита протертым «рыбьим мехом», с большими лысинами, а главное, у нее сегодня, как назло, оторвалась подкладка рукава — вата вместе с какими-то тряпочками, — и все это висело на нитках как нечто самостоятельное и к куртке не имеющее никакого отношения.
Приняв си Дзержинского куртку и назвав ее почему-то рединготом, швейцар вправил ей рукав, покачал головой и начал раздевать Россола — снял с него тоненькое потертое пальто, потом ватный пиджачок солдатского образца, потом стеганый на фланели жилет. Лицо у швейцара сделалось непроницаемым.
Кафе было маленькое и почти пустое. Под матовыми колпаками горели газовые лампы. В красном кирпичном камине жарко потрескивали смолистые поленья. Столик у камина, покрытый свежей скатертью, был свободен, и приятели, усевшись, протянули ноги к огню. Потом оглядели друг друга.
— Почему это на тебе студенческая тужурка? — спросил Дзержинский.
— Купил у старьевщика, — ответил Россол. — Нельзя же ходить голым.
Только здесь они оба почувствовали, как устали за этот день, как продрогли, как хочется поесть и погреться возле камина у огня.
— А тут шикарно, — сказал Россол. — Я бы с удовольствием просидел здесь целый вечер.
— Даром не позволят сидеть, — произнес Дзержинский. — Если сидеть, так надо есть и пить.
Подошла официантка с крахмальной наколкой на голове и в крахмальном белом фартучке.
— Дайте карту кушаний, — сказал ей Россол с таким видом, точно всю жизнь только и делал, что болтался по кафе.
И, прищурившись, стал читать названия кушаний — мясных, рыбных, овощных, которые шли в карточке перед сладкими, пирожными и печеньями.
— Нет, мясо на ночь тяжеловато, — сказал Дзержинский, хоть с утра он ничего еще не ел, кроме пирога с печенкой, купленного утром у торговки на улице, — мясо не стоит, вот разве что-нибудь легкое из рыбы. Прочитай-ка, что у них есть рыбное…
Россол прочитал еще раз, но они так ничего и не нашли подходящего и остановились на двух яичницах с колбасой.
— Это, пожалуй, будет полегче, — согласился Россол.
После яичниц они заказали по стакану кофе — Дзержинский черного, а Россол со сбитыми сливками — и по пирожному. Пирожные пошли выбирать к стойке.
Каких тут только не было пирожных: миндальные, и ореховые, и шоколадные, и слоеные, и корзиночки, и с заварным кремом, и с сахаренными фруктами… Выбирать пришлось довольно долго.
— Мне вот это — с кремом и с фисташками, — сказал наконец Россол, — на вид оно довольно привлекательное, каково-то будет на вкус…
— А мне миндальное, — сказал Дзержинский.
Они вновь сели у камина. Но официантка в наколке все не уходила…
— Почему она не уходит? — шепотом спросил Дзержинский у Россола.
— Наверное, у нас с тобой такой шикарный вид, что она не прочь сначала получить деньги.
Дзержинский покраснел и вынул из кармана деньги.
— Получите, — сказал он, — и поторопитесь, барышня!
Официантка ушла; она действительно не верила этим гостям: слишком уж у них неважные костюмы, у этих господ, и слишком голодные лица. Нет уж, с таких всегда полезно получить деньги вперед.
Россол сидел, повернувшись лицом к камину, и не мигая смотрел на огонь.
— Это смешно, — вдруг сказал он, — это смешно, Яцек, что она не поверила тебе. Не поверила человеку, который…
— Брось, Антон, — сказал Дзержинский.
Он вынул папиросу, хотел закурить, но не нашел спичек в кармане. У Россола спичек тоже не было.
— Пойди, там у окна сидит толстый человек и курит, — сказал Россол, — прикури у него.
Дзержинский приподнялся, но тотчас же вновь сел и быстрым шепотом сказал Россолу:
— Там филер. Когда мы вошли, его не было. Не оборачивайся. Он делает вид, что читает газету, на самом деле он ничего не читает, а смотрит в зеркало и следит за нами. Надо уходить. Живо!
В это время вошла официантка с подносом. На подносе стояли сковородки с яичницей, хлеб, соль. Яичница шипела на сковородках.
— К сожалению, мы должны уйти, — сказал Дзержинский, — вы слишком нас задержали.
Официантка широко раскрыла глаза.
— Теперь уже быстро, — сказала она, — теперь все будет в одну минуту!
Но странных гостей уже не было. Они шли к дверям.