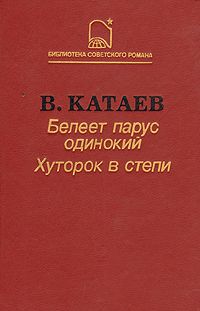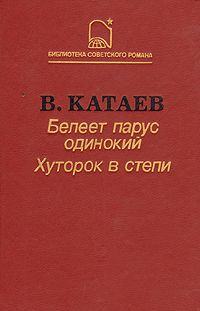Алесь Адамович - Каратели
– Знацца, и ты в Борки попала? И я тоже в первый раз. Все говорили: Борки, Борки! Девок отсюда наши брали замуж. Беда с вами: тут такое делается, а она рожать надумала! А может, ты с мужиком сюда прибежала? В банду захотел! Не сидится им, а теперь бабам и детям за них отдувайся. Надо им эти партизаны! Сидели бы как люди!.. Ну что мне с тобой делать, говори? Ну что? Где я тебя в этой конторе спрячу? Все сгорит. А я кого-то должен привести, послали за тобой. И Тупига видел…
* * *О чем он, чего он от нас хочет, господи? И кто это так плачет, почему я здесь, неужели правда, что это я, что я здесь, плачу, кричу, и все это происходит, господи?..
* * *– Разозлили немцев, а отвечать нам с тобой! Ну вот сама скажи: что я могу? Живая сгоришь, если бы и осталась. Думал, что как-нибудь, племянница все же. Но что ты тут придумаешь? Во, ай-яй-яй! Тупига вертается, назад идет! Ну, пропали! И еще не один, с кем это он идет? Сиротка! Его тут не хватало! Звини, хотел, а тут видишь… («Эй, тхор блудливый, ты все здесь?») Видишь, кличет Тупига! Ды иди уже, чего тут. Слышь, баба, добром вас просят!..
* * *… Я плачу, я кричу, вою, рву на себе волосы, мне не хочется свет белый видеть – жить не хочется. Мне только страшно идти по полю этому, среди разбросанных платков, галош, детских курточек и видеть впереди тот сарай, угол, за который все шли и где такая жуткая тишина. Каждый, подходя к углу, обязательно останавливался: детки бросались в сторону, их ловили, хватали, тащили туда, за угол… Какое счастье, что мои не видят, ничего не увидят. Мы тоже оставим на этом поле платок. Оставим. Гриша придет из лесу – он обещал прийти, когда я рожу, забрать нас от тетки Маланки – придет и заберет платок и будет знать, где мы. Будет знать где. Видите, детки, нас не бьют, не толкают. Вот он даже платок мой поднял, догнал, подает мне. Потому что он дядька наш. Ваш дедушка. А за ним еще двое идут: гогочут, им так весело, так весело. Только минуть угол. И ничего не думать, ничего не думать… За страшным, тихим сараем – голоса, смех! Вот они: в черном, в зеленом, голубом стоят среди поля и под стеной – смотрят на меня, замолчали и ждут. Я что-то должна сделать, они ждут. Я должна умереть. Но где все люди, куда они их девали?.. Больно толкают – в плечо, в спину. К нему подталкивают, вот он – тот, кто ждал, дожидался за углом! Все на него смотрят, на нас – на него и на меня, – и ждут. Он глаз не поднял, не видит меня, но он уже зол на меня больше всех, уже ненавидит. За то, что меня надо убить, за это он так ненавидит? Рука с наганом опущена к ноге, а сам он по пояс голый, подвязался, как фартуком, рубахой. На жирной груди мокро от волос, никогда не видела, чтобы столько волос было на человеке. Руки аж черные, нет, это рукавицы у него шоферские, по локоть длинные… Стоит над ямой. Только не смотреть на яму, не смотреть туда! Картофельная ботва затоптана и полита чем-то, как смолой, песок слипшийся… И на ноги налипает, меж пальцев. Я не обула ничего на ноги, собралась в Германию, а ничего не обула. Я же босая!.. А они смеются все громче, выкрикивают и смеются: «Гляди, уже с брюхом!.. Вот что значит Доброскока послали. И Кацо не докажет!.. Смелее, смелее, тетка, у Кацо это еще лучше получается!» А яма молчит. И все открывается, все ближе, шире открывается. В поясницу больно уперлась винтовка, они меня вперед подталкивают, а Голый, Черный все отступает, не поднимая руки с синим наганом, отходит к яме… Только не смотреть. В яму не смотреть. Такое что-то кислое из нее! Мне же нельзя пугаться, мне нельзя! Деткам повредит, пошкодит. Нет, я отвернусь, я не хочу смотреть. Дядька, что ты, что же это ты робишь с нами!.. Какое у него плачуще-сморщенное личико, как дико оно похоже на детское! Испуганно заслонилось локтями, руками, вскинувшими винтовку…
* * *… Доброскок выстрелил в повернувшуюся к нему женщину. Выстрела она не услышала. Сделала шаг, второй, третий назад и опрокинулась навзничь на убитых – в яму. Тупига подошел к яме, и ему показалось, что рука женщины еще захватила и потянула на колени подол платья.
Женщина спала..
* * *Свидетельства жителей «огненных деревень» – Красница, Борки, Збышин, Великая Воля:
«Во ржи они не искали. Из хаты в хату ходили. Може, ближе где искали, а нас – никто. Только было такое тяжелое, страх – и спать хотелось… Знаете, на нас ветер шел, этот дым, понимаете, такое мятное, люди же горели, запах тяжелый был. И спать хотелось…»
«Рассказывать вам, как это все начиналось? Ну вот, я жала на селище. Ячмень жала, а рожь стояла, и там перебили двенадцать душ. А как стали они людей тех бить, я во так легла ничком и заснула. Я не слышала, как их били, не слышала ани писка того, ани крика. А потом, когда встала я – ого! – уже моя хата упала, уже и соседские. Все трещит, и свиньи пищат, и вся скотина ревет. Так я поднялась и стою, а соседка идет и говорит:
– Чего ты тут стоишь? У нас же всех побили/»
«А тут приезжает на лошади полицейский, который добивал. Видит, что живой – добивает. Он ко мне подъехал, а я глаза приоткрыла и тихонько смотрю на него. А дети не шевелятся, спят. Уснули».
«Я попал тогда как раз в другую группу, двадцать четвертым. Я только помню, что до того момента был при памяти, пока скомандовали ложиться. Упал я – уже выстрелов не слышал, как по нас стреляли. Может, и уснул. Что-то получилось».
* * *Так это правда? Правда, что я здесь и мне это не снится? Но почему я должна не здесь быть, а где-то еще: и мама, и отец со мной, они меня любят, и нам хорошо вместе. Голоса у них добрые, утренние, когда ничего еще не случилось за день, никто никого не расстроил, не обидел. Это вечером отец бывает сердитый, уставший от ругани со своими строителями, и тогда мама с ним разговаривает вполголоса, очень спокойно, но все равно не так, как утром. Почему я думала (я помню, что думала, считала!), будто мама моя умерла? Вот же она, со мной, с нами, и все мы вместе! Да, война, где-то война, и там нет мамы, отца тоже нет, я там одна, а здесь, сейчас мы вместе, все втроем, и они такие молодые и похожие на самих себя – отец и мама. Особенно мама. И наша общая спальня: процеженный сквозь белые шторы свет, ярко-красный шелк в вырезе пододеяльника, отец позвал: «Малышка!» – и я соскользнула со своей кроватки на холодный, как стекло, крашеный пол, меня встретили его руки и втащили на «взрослую» кровать, мягкую и пахнущую табаком. Я нырнула носом, лицом в скользко холодноватый красный шелк и стала шиться под белый пододеяльник, а папина рука ищет меня там, щекочет, мама нас утихомиривает: «Как маленькие!» Папины руки оторвали меня от одеяла–«земли», высоко подняли, держат, и я больно ощущаю под его пальцами, какие у меня еще детские, тонкие ребрышки. Щекотно и почему-то стыдно, но от этого еще радостнее. Мама смеется вместе с нами, но она тотчас почувствовала мой стыд и отнимает у папы меня, стаскивает с «неба» на одеяло. Пахнущие кремом, ночью и еще чем-то красивые руки ее не могут справиться с папиными, и у нас столько смеха, возни, рук, ног! Папа опустил меня лицом, ртом, губами на жесткую, колючую грудь. И тут же перекатил, как котенка, к маме: «Вот твое молочное хозяйство!» Мама пугается, сердится: «С ума сошел!» Стыдит меня: «А ты, большуха!» Но я все равно прижалась, как притянуло меня, жадно-жадно к ней прильнула и так близко услышала тихое постукивание. Тихое, потом громче, громче, уже весь мир заполняют гулкие удары – я снова там, у себя, под необъятным куполом маминого сердца!..
* * *Уют и тревога, полет и цепкая устойчивость… Что-то уже радовало его, мальчик улыбался, слыша гулкие, ровные удары, он морщился, сжимался, когда высокий купол куда-то уносился, унося и его, а удары делались оглушительными и частыми-частыми. Из материнской плоти в него заходила кровь, принося сны. Все поколения когда-либо живших людей и умерших давно существ пытались пробиться в его сны, теснились в маленьком мозгу, в каждой клетке его тельца, снова пытались вернуться туда, откуда унесла их и все дальше уносит смерть. Сны он не видел, он их ощущал: как чье-то доброе или злое присутствие. Доброе сливалось с ровными и вечными ударами, злое копилось, когда удары делались оглушительными, тревожно-частыми. С каждым ударом вспыхивала, открывалась из конца в конец вселенная, звук этот уносил купол вверх, держал и не позволял куполу опуститься, упасть и все увлечь за собой…
Шестимесячный под живым сердцем матери лежал вместе с нею на трупах.
На ручных швейцарских часах немца Лянге было 11 часов 31 минута по берлинскому времени.
* * *… Мама отталкивает меня от груди стыдливо, даже сердито, отец хохочет, опять поднял на вытянутых руках, и я вижу что-то черное там, где наше большое зеркало. Длинная, как мамино новое платье, черная тряпка висит на зеркале. Господи, нет, это неправда, что мама умерла! Папа поднимает меня, чтобы я могла ее видеть, а я не смотрю на лицо, а только на платочек в желтых пальцах, нежный, как светящийся мотылек. Потому что если увижу ее лицо, – это будет правда. Господи!.. Какие-то женщины внизу шепотом подсказывают мне: «Поплачь, тебе надо плакать, тебе надо…» Я отвожу глаза на зеркало, на черную тряпку и нарочно вспоминаю, как мы ходили фотографироваться, все втроем, а онспрятался под черное, тот, к кому мы пришли… Упадет черная тряпка, и я все увижу. Все!.. «Ты не бойся, ты поплачь, тебе надо плакать…»