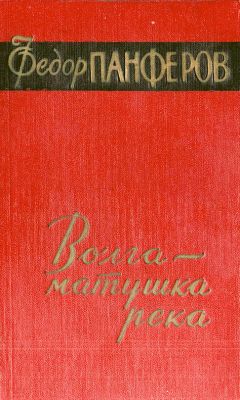Федор Панфёров - Бруски. Книга I
– Вот, – прошептал Плакущев, – тут тебе и явны и тайны коммунисты.
Егор Степанович откинулся, посмотрел на большую голову Плакущева и вновь сунулся к столу.
– Читай, – еле слышно проговорил он.
– Явные коммунисты, – начал Плакущев, – Огнев Степан – в восемнадцатом году грабежом занимался; отобрал у Чухлява Егора шестнадцать овец, крестьян грабил! Притом сына коммуниста имеет в Москве.
– Шестнадцать – верно! – подтвердил Чухляв. – И еще ягненка.
Плакущев мельком на него глянул, продолжая:
– Федунов – председатель сельского совета, явно держит руку коммунистов… Панов Давыдка… Николай Пырякин…
– Стоп, – прервал его Чухляв. – Стоп тут. Николку не след, по-моему, никак не след. И какой он есть коммунист? И сосед мне. Это надо принять.
«Боится соседа», – подумал Плакущев и, заложив Николая пальцем, стал читать дальше:
– Якушев Гараська в артель пошел, явно с коммунистами, Митька Спирин…
– Не-е-е-е-т, – прервал Чухляв, – ты Николку-то пальцем не закладай. Ты выкинь, выкинь от греха.
– Да чего ты боишься? – вынимая из другого кармана листовку и раскладывая ее на столе, проговорил Плакущев. – Ты вот слушай, – и, чуть приподняв к свету листовку, начал читать то, что было написано жирным шрифтом:
– «Совет трех» народной крестьянской армии под командой Василия Карасюка отныне объявляет, что вся власть принадлежит народу и народ сам собой управляет. Долой коммунистов, комиссаров! Да здравствует крестьянский союз!.. За мной идет сорокатысячная армия… В Москве…» – Плакущев запнулся и, не разобрав, что было написано дальше, обернулся к Чухляву: – Видал? Тут – сила. Советчики на ладан дышат.
Егор Степанович весь сморщился.
– Не-ет… Я на то не согласен… Не согласен на то, чтоб Николку в явные, не согласен – и все… Силой, что ль, меня?
Бились долго, бились над тем, куда отнести Николая Пырякина – в явные или тайные коммунисты.
– Ты с нами в кантахт не хошь, – хрипел Пчелкин, – ты насупротив нас.
А Егор Степанович одно свое долбил:
– Прочь Николку.
Злился и Илья Максимович и в злобе свой план высказывал:
– Перво-наперво – семенной хлеб в советском амбаре поделить, этим на свою сторону всю голытьбу…
После этого Егор Степанович совсем отпрянул в сторону, замотал головой:
– Не-ет, уж тут я совсем не знаю! В старшинах я не ходил, в писарях не был, не знаю. Чужого добра сроду не брал… Не-ет, руки обмываю. Не-ет, – взвизгнул он, – в это дело я не впутываюсь… И вообще не впутываюсь, – вдруг неожиданно заявил он. – Наотрез не впутываюсь, и все. Нет, лет, и не говори, Илья Максимович, и не тяни меня.
– Че-ерт ты! – вырвалось у Пчелкина.
– Постой, постой, – Плакущев схватил Чухлява за плечо, – постой. Мы разберемся… Мы разберемся… в таких делах с тобой.
Торопливый стук в ворота прервал Плакущева. Илья Максимович быстро сунул список и листовку под столешник. Егор Степанович подбежал, выхватил список и листовку и молча сунул их Пчелкину, а сам кинулся открывать ворота… Через несколько минут в избу ввалился грязный, измученный Яшка. Глядя на Плакущева и на Пчелкина, проговорил:
– Собрались? – Потом громче добавил: – Банды в Алае. Насилу вырвался, – и обратился к отцу: – Ты лошадь-то прибери, тятя. Телегу я оставил в поле… Пожрать бы чего, – и, схватив в чулане кусок пирога, выскочил из избы.
– Куда ты? – спросил Егор Степанович, кидаясь вдогонку.
– Куда след, – ответил Яшка и скрылся в темноте.
7
Когда часов в десять ночи Федунов увидел в улице тревожную дрожь фонарей, он догадался, что Карасюк где-то поблизости и его надо ждать в Широком Буераке в ночь или на заре. Вечером же Федунов узнал и о том, что Пчелкин усиленно вертит языком на селе, агитируя за раздел хлеба. Все это и не давало покоя Федунову. Он сидел под окном, напряженно всматриваясь во тьму. Дедушка Максим лежал на полатях, возился, кряхтел и только потом, глубокой ночью, заговорил:
– Отстань, сынок… Не эти дела наши… Наши дела – землю пахать и с народом жить – ну, и поди к народу… Гляди – один на селе. И поди к народу, скажи от власти отстраняюсь, вот вам ключи от амбара. Что хотите, то и делайте с хлебом: я вам не помеха.
Федунов молчал. Одно время у него явилась мысль – пойти к Пчелкину, передать ему ключи от амбара и сказать: «Сдаюсь».
«Ведь и он, – думал Федунов про Пчелкина, – за советскую власть горой стоял – барское имение громил, и все такое… А теперь – вишь как разобиделся…»
Недели две тому назад Федунов ходил по селу, переписывал скот у крестьян… Когда пришел к Пчелкину, тот сообщил, что у него всего-навсего четыре овцы, а при проверке оказалось их пяток. Пяток и записал Федунов. Пчелкин тогда еще пригрозил ему осиной в Сосновом овраге.
– Вишь, зловонный какой, – пробормотал Федунов.
– Все зловонны, – дедушка догадался, о ком идет речь. – Все кусок белый норовят… а этого не зря громилой зовут – громила и есть.
Тараканы, словно дробный дождь, зашуршали в темноте. За перегородкой спала Даша, жена Федунова, и что-то непонятное бормотала во сне. Она дохаживала беременная последние дни. Это-то больше всего тревожило Федунова.
– Из-за прута повесят, – нарушил тишину дедушка. – Вот и говорю тебе: не в те годы на службу ты пошел… народ злой… повесят за милу душу…
– Ты, тятя, молчи… не береди… лежишь, ну и не береди.
– Э-э-эх, робяты, нас не слушаете, баб своих не слушаете. Кого же слушаете? Дядев чужих?!
По порядку – еле заметно – кто-то скользил к дому. Федунов затаил дыхание, плотнее припал лицом к холодному стеклу, всмотрелся. Человек остановился. Вначале, казалось, он что-то долго шарил под ногами, потом, срастаясь с плетнями, хибарками, осторожно переступая лужи, двинулся вперед.
Федунов, не отрываясь от стекла, нащупал под лавкой топор, крепко сжал его в руке, зашептал:
– Тятя… Серка… Серка погляди.
Дедушка быстро шмыгнул с полатей, выбежал во двор… Федунов потянул топор из-под лавки, топор концом задел за бревенчатую стену – звякнул. Человек уже приблизился к калитке, чем-то крест-накрест чиркнул по шершавым доскам, двинулся, заглянул в первое окно, потом осторожно, крадучись, подполз к тому окну, за которым стоял Федунов.
«Как только подойдет, со всего размаха шибану через стекло по башке и тем покончу», – мелькнуло у Федунов а.
Взмахнул топором…
Человек, заметя блеск топора, кинулся в сторону, перебежав на другой порядок улицы, скрылся в темноте.
Потом тьму разрезал пронзительный, перепуганный выкрик, и вновь молчаливая тьма глянула в окно.
8
Пчелкин очнулся на заре. Он лежал в луже у двора Чухлява Егора Степановича… В голове у него ныло, шумело, как после сильной попойки. Упираясь руками в грязь, он поднялся сначала на колени, потом, разламываясь, встал и заторопился в переулок – на зады. И дорогой припомнил: вчера поздно вечером он вышел от Чухлява, распростился с Плакущевым и, перейдя Пьяный мост, завернул на Бурдяшку. На Бурдяшке все уже спали, только в самом начале, у разодранной ветлы, в избенке Васьки Шлёнки горел огонек. Пчелкин подкрался к окну, заглянул. На полатях возился Шлёнка, внизу около коптилки за столом сидела Лукерья, быстро вертела в глиняном блюде веретено, а по другую сторону стола – секретарь сельского совета Манафа.
Шлёнка повернул голову и, как сыч глянув с полатей на Манафу, заговорил:
– Что, опять завариха?
– Завариха, – ответил тоненьким голоском Манафа.
– Этак-то вот вас и след.
– А тебе легче от этого? Ему легче, а? – Манафа засмеялся, обращаясь к Лукерье, явно ухаживая за ней.
Лукерья сконфуженно опустила лицо к веретену.
– Замучили, – буркнул Шлёнка. – Фабрику, слышь, из деревни… чтобы всем хорошо… кисельны берега… да-а-а. Эх, бока-то как болят!
– Еще бы не болеть… день-деньской лежишь, – сказала Лукерья. – У лошади вон под сараем на сажень навозу…
– Ну, чай, лошадь – скотина, не прогневается, – утвердительно заявил Шлёнка. – А ты вот что, Манафа, какое жалованье огребаешь?
– Двенадцать целковых.
– Эка!.. Я, бывало, больше пропивал… А это день за письмом торчи – и двенадцать.
Пчелкин оторвался от завалинки, шагнул к воротам из жердочек, глянул во двор. Там кто-то дергал из плетня хворосток.
«Кому бы это быть?» – подумал он и тихо позвал:
– Эй! Кто?
Никто не отозвался. Тогда он нагнулся и напряженнее посмотрел во тьму.
«Человек? Крупен больно. Кому же быть-то?»
Еще ниже нагнулся – и на сером фоне неба разглядел лошадиную голову. Голова, прикладываясь к плетню, вытаскивала тонкий хворосток и хрупала его на зубах.
– А-а-а! – протянул Пчелкин и, не найдя затвора, перелез через ворота. – Э, сидит! Вот чудо!
Лошадь, в самом деле, волочила за собой, точно перебитые, задние ноги. Тогда Пчелкин торопливо взбежал на крыльцо, и дверь со скрежетом впустила его в избу.
– Василий, беда у тебя на дворе!