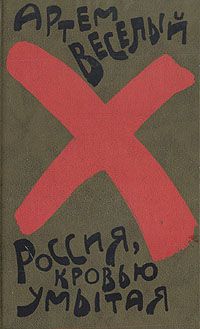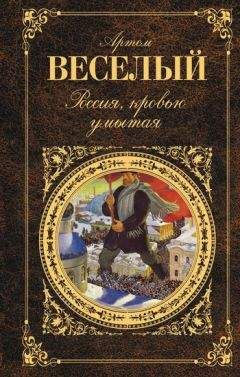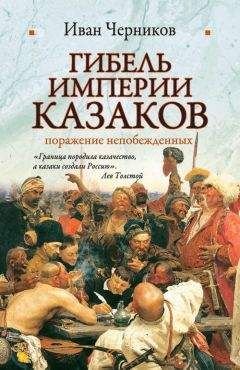Артем Веселый - Россия, кровью умытая
Оружие фронтовое на нем, ковровые чувалы и домашнее — под серебром — чернью травленное седло на горбу.
— Катанем, Максим, на родную Кубань, до скусных вареников, до зеленого степу, до удалых баб наших. Провались война, пропади пропадом, проклятая сатана, надоела.
— Так-то ли, Яша, надоела, сердце кровью заплыло, а как поедешь? Не с печи на полати скакнуть.
— Э-э, сядем да поедем… Все едут, все бегут… И наш четвертый пластунский батальон фронт бросил. Довалились мы сюда, водоход заарестовали, к вечеру погрузимся и — машинист, крути машину, станови на ход!
Вижу, правильно — ветер по морю чубы закручивает, и водоход у пристани Якова ждет.
Расступился в мыслях я — ехать или нет?.. Полчан маленько совестно — меня, как бытного, послали, а я убегу?.. И шпагат, признаться, жалко.
— Нет, Яша, не рука.
— Напрасно.
— Мало ли чего… У нас в роду никто дезертиром не был. Дедушка Никита двадцать пять лет служил, да не бегал.
— О том, кум, что было при царе Косаре, поминать нечего. А со мной не едешь зря, попомни мое слово — зря.
— Поклонись сторонушке родимой… Марфу мою повидай, сродников. Отвали им поклонов беремя. Пускай не убиваются, скоро вернусь. Порадуй мою: боев на фронте больше нет; кто остался жив, тот будет жить. А еще накажи Марфе строго-настрого, чтоб дом блюла и последнего коня не продавала. Вернусь ко дворам, пригодится конь.
Яков меня и слушает и не слушает, ус крутит, усмехается:
— Ставь бутылку, научу с фронтом распрощаться, а то еще долгонько будешь петь: «Чубарики-чубчики…»
— Ты научишь в обруч прыгать…
— Говорю не шутя.
— Учи давай, за бутылкой я не постою, бутылку поставлю.
— Подписывайтесь всем полком в большевики и езжайте с богом кто куда хочет.
Слова станишника мне вроде в насмешку показались, спрашиваю:
— Слыхал, про большевиков-то чего гуторят?.. Продали, слышь?..
— Брехня.
— Ой ли?
— Собака и на владыку лает.
— Что ж они такие за большевики?
— Партия — долой войну, мир без никаких контрибуций. Подходящая для нас партия.
— Так ли, кум?
— Свято дело сватово.
— Ты и сам большевик?
— Эге.
— Значит, домой?
— Прямой путь, легкий ветер.
Заныло сердце во мне…
Укатит, думаю, казак на родину, а мне опять сто верст с гаком по грязи ноги вихать, опять постылые окопы… Но тут вспомнил я роту свою и товарищей своих, с которыми не раз отбивался от самой смерти… С твердостью говорю:
— Нет, Яша, не рука. К рождеству ожидай и меня, режь кабана пожирнее, вари самогон попьянее, гостевать приду.
— Долга песня.
Распили мы с ним в духане бутылку вина, пошли к морю. Казак рассказывал мне про свою службу:
— Две зимы наш батальон под Эрзерумом черные тропы топтал… Две зимы казаченьки голодовали, холодовали, призывали бога и кляли его, вослед нам ложились могилы и кресты… Вспомнишь о доме: земли у тебя глазом не окинешь; скотины полон двор; птица не считана; жена, как солнышком умыта, под окошечком скучает, тягостные слезы льет… А ты — горе, кручина, чужая сторона — торчи в проклятой во Туречине, томись смертной истомой да свищи в кулак… Улыбнулась из-за гор свобода, все петли и узлы полопались, потянуло нас домой… Так потянуло, терпенья нет. Был у нас в батальоне один такой политический казачок — книгоед, вот он и говорит: «Так и так, братцы, пора и нам опамятоваться». Подумали мы думушку казачью, погадали про свою долю собачью и решили всем батальоном к большевикам перекачнуться.
— Хваты-браты.
— И я то же говорю.
— Ну и ну да луку мешок.
Порт кишел солдатами, солдат в порту, как мошкары.
На каждом винтовка, котелок и фляга бренчит. С шумом и гамом толпами валили все новые и новые из города и с пригороду, топтали друг друга, ревели как бугаи, лезли — пристанские мостки под ними провисали — всяк свое орал, всяк рвался на водоход попасть, на водоходе местов не было: на самой трубе и то человек с десять торчало.
С крыши пристанской конторы говорил речь какой-то приехавший из Новороссийска юнкер Яковлев — шапка с позументом заломлена набекрень, солдатская шинель нараспашку. Он ругал буржуев и хвалил большевиков; самыми последними словами клял Временное правительство и восхвалял большевицкие совдепы; призывал записываться в Красную гвардию и уговаривал продавать лишнее оружие какому-то военному комитету.
Кто к его голосу прислушивался и останавливался, кто мимо шел.
Обмотал кум бинтом здоровую руку и кричит:
— Расступись, вшивая команда, пропускай раненого. Расступались солдаты, казаку дорогу давали. Пробрался он на водоход и с борта папахой мне помахал.
— Прощай, Максим, ты все-таки подумай.
— Думала баба над корытом…
Рявкнул водоход, встряхнулся и поплыл — поплыл, как гусь белый.
Те, что остались на берегу, готовы были с досады землю жрать, матерились в креста, бога, печенку и селезенку.
А водоход дальше дальше и чу-у-у-уть слышно:
Из далеких стран полуденных,
Из турецкой стороны
Шлем поклон тебе, родимая,
Твои верные сыны…
Принялся я своих товарищей уговаривать не терять время попусту, скорее до полка возвращаться. Рассказал о встрече с Яковом Блиновым, о его казацкой хитрости и ухватке молодецкой.
Стояли мы так, мирно беседовали. Ночь поднималась над городом и над морем, по улицам мотались солдаты и, не боясь угодить в маршевую роту, во всю рожу запеснячивали песни расейские. А потом слышим, пошло: «Ура, караул, алла-алла!» На базаре артиллеристы кинулись азиятов бить, лавки и магазины ихние поразвалили, товаришко всякий в открытом виде валяется, любую вещь нарасхват бери.
Пулеметчик Сабаров отбился от нас и остался в городе, а мы с Остапом Дудой закурили и зашагали обратно на позицию.
Слушать нас сбежался весь полк.
Полчане стояли тесно — плечо в плечо и голова в голову.
Взлезаю на повозку, говорю на полный голос, чтоб до каждого достало:
— Фронтовики… Кровь родная… Скажу я вам, какая в Трапезунде открылась нам секретная картина.
Над целым полком стою.
Тыща глаз ковыряют меня, тыща плечей подпирают меня… Не чую я ни ног под собой, ни головы над собой… Ровно пьяный, легко раскидываю кулаки и по чистой совести раскрываю похождение наше в Трапезунд — кого видали, чего слыхали, за какие грехи роняем крову свою, в чем тут фокус и в чем секрет…
Семь потов, как семь овчин, спустило с меня, пока говорил.
Кто кричит — правильно, кто — верно, а кто со злости только мычит.
Меня так и подмывало еще говорить и говорить, пока самый захудалый солдат поймет, в чем тут загвоздка и в чем же суть дела.
Остап Дуда тоже остервенел: весь так и вызверился, подкатило человеку под само некуды… Оттолкнул меня и кричит Остап Дуда:
— Расея… Шо це таке воно за Расея?.. Расея есть притон буржуазии… Кончай войну! Бросай оружью!
Солдатская глотка — жерло пушечье.
Тыща глоток — тыща пушек.
Из каждой глотки — вой и рев:
— Окопались…
— Хаба-ба…
— Говори, еще говори.
— Измучены, истерзаны…
— Воюй, кому жить надоело.
— Триста семь лет терпели.
— Долой войну!
— Бросай оружье!
— Домой!
Долго над полком сшибались крики, как бомбы рвались матюки, потом тише тише и замолчали.
Оглянулся я.
Оглянулся Остап Дуда.
Стоит позади нас на повозке, как смерть постылая, Половцев — полковой наш командир… Ус дергает, пыльно так на нас глядит, и вся его морда лаптами горит.
Полк боялся Половцева за крутой характер — боек, его благородие, был на руку — и любил своего командира за храбрость его офицерскую. Мало из них отчаюг выдавалось, чаще всего на солдатской шкуре выбивали марши победные, ну а этот с полком всю службу вместе проходил. Под Эзерджаном сам впереди цепи два раза в штыковую атаку ходил и турок крушил саморучно; пуля просадила ему плечо, другая зацепила ногу, но он не пожелал в тыл отлучаться и лечился в походном лазарете при своей части. Любитель был Половцев и в разведку ходить, под Мамахутуном привел двух курдов в плен совсем с конями.
— Солдаты! — гаркнул командир, но никто не показал ему глаз своих, и никто, как в бывалошное время, не поднял головы на призыв его. — Солдаты, где ваша совесть, где ваша честь и где ваша храбрость?
А мы уж и сами не рады былой храбрости своей. Стоим, глаза в землю уперев.
Принялся командир говорить про недавнюю доблесть полка, про долг службы и завел такую волынку — слушать прискорбно — родина, пучина позора, всемирная борьба, харчи-марчи, чофа хата и так далее…
Тяжело обвисли головушки солдатские…
Он свое говорит, мы свое думаем… Кто в ширинке скребет, кто — за пазухой.
Как-то нечаянно, искоса, глянул я на волосатый начальников кулак, заткнутый пальцем за пояс, и сразу забыл и храбрость его хваленую и молодечество, другое в башку полезло…