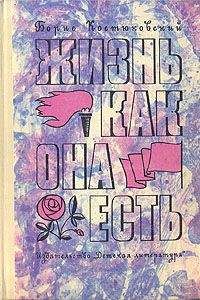Иван Арамилев - В лесах Урала
День на редкость солнечный, теплый. Осень будто одумалась, что рано пришла, и отступила, зацвело благодатное бабье лето. Я поглядывал в небо — не видать ли пролетных птиц. В вышине было чисто, светло и тихо. Должно быть, утки и гуси, радуясь хорошей погоде, отдыхали на озерах, не спешили к югу.
С горы, от Ивановки, неторопливо спускались два человека. Один растягивал гармонь. Медные угольники сияли на солнце. Ветер донес лихую, подковыристую песню:
Шел я лесом чертом-бесом,
Не боялся никого.
Черный заяц показался.
Испугался я его.
У меня захолонуло сердце. Возвращался отец! Он всегда в отлучке. Летом гоняет плоты, спускает в низовья купеческие баржи. Зимою рубит лес в дальних местах, добывает гранит в каменоломнях. Приходит домой только к праздникам, приносит гостинцы, оживление в дом.
Последние годы отец «завлекался» золотом. Накопит немного денег, снарядит летом ботник, уезжает куда-то искать «жилу» или пешком топает по горам и отрогам. Возвращается злой, голодный, оборванный. Золото не «выходит» на него. Каждая встреча с отцом оставляет след в моей душе. Он так умеет рассказывать о своем искательстве, что хочется побывать в тех краях, где плавал его верткий сосновый ботник, где ступала его натруженная нога.
Я встал, охваченный радостью, побежал навстречу. Отец звонко ахнул, положил гармонь на дорогу, протянул горячие твердые руки.
— Здорово, сынок! Милый ты мой!
Он прижал меня к груди, стал целовать. От него пахло вином и табаком. На нем были стоптанные сапоги, короткое пальто из бобрика, на голове помятый синий картуз. Высокий, широкоплечий, с подстриженной русой бородкой и загорелым лицом, он выглядел статным, красивым. Попутчик его, долговязый мужик в рваном чекмене, с котомкой за плечами, улыбался. Из котомки торчало зазубренное, видавшее виды кайло.
— Как у нас? — спросил отец и разжал руки. — Живы-здоровы?
— Живы-здоровы.
— Ну и ладно. И я жив, иду попроведать. Как славно, что ты первый встретил меня!
Он достал из кармана связку баранок.
— Ha-ко пожуй, милок, да не все уплетай. Матери с бабкой оставь.
Он подмигнул спутнику.
— Гляди, Данило, какой шиш растет! Весь в отца. Скулы, глаза, нос — все мое. Наследник! Люблю его, брат, пуще всего на свете. Кабы не он, и домой бы не тянуло. Ей-ей, не вру!
— Хороший малец, — ответил Данила хриплым голосом. — Старатель выйдет первый сорт. По глазам видно — бедовый!
Отец взял гармонь, заиграл «прохожую». Данила вскинул на плечо мой мешок с солью, запел частушку.
И так с песнею мы вошли во двор.
В избе отец поцеловался с матерью, бабушкой и дедом, снял пальто, сел в передний угол. Данила примостился на лавке у окна. Бабушка начала ставить самовар. Дед спрашивал отца, где он побывал, как работал, что видел. Мать обшарила карманы отцовского бобрика. Кроме бутылки водки, баранок и кисета с махоркою, там ничего не было. Лицо матери побагровело.
— Алексей, деньги где? — глухо спросила она. — Опять в карты просадил?
Отец виновато моргал.
— Деньги что? Не беспокойся, Степаха. Даст бог здоровья, деньги будут. Верно говорю. Мы с Данилой…
— Опять то же и оно же! — крикнула мать визгливо. — Ну муженек! Ну работничек! Ну…
— Молчать! — перебил отец. — Я тебе кто? Не твое дело…
— А, не мое дело! — еще злее и громче сказала мать. — Лето в отходе шатался, пришел зимовать с дырявым карманом, и ему слова не скажи. Это что такое?
Бабушка подошла к матери.
— Уймись-ко, Степанида, уймись. Мужику с дороги отдохнуть надо. Завтра поговорим о делах. Уймись, желанная.
Мать не унималась. Ожесточась, она выговаривала отцу. Он из года в год ничего не. приносит домой, — хозяйство держится на старике, дальше так жить невозможно.
Дед подсел к Даниле. Они курили трубки, о чем-то тихо, почти шепотом, беседовали. Семейные ссоры всегда неприятны. Я думал о том, как помирить отца с матерью, посадить рядом за стол, самому сесть между ними, вместе хлебать праздничные щи, слушать песни, веселые прибаутки.
Я ухватил мать за сарафан, потянул к лавке.
— Мамка! Да мамка же, перестань!
Она шлепнула меня ладонью по спине.
— Отойди прочь! Что понимаешь?
И опять, захлебываясь злостью, начала:
— Я ему вальком башку расколю! С гармонью ходит, как рекрут. Ох, стыдобушка моя! Ох, пропащая душа! Да зачем женился? Зачем сына произвел на свет? Хуже Лариона!
Отец, наверно, сознавал вину, многое мог стерпеть, но сравнение с дядей Ларионом вмиг ожесточило его. Он сорвался с лавки, ударил мать кулаком в подбородок, и она упала навзничь.
Данила схватил отца за руки. Мать, сидя на полу, бранилась.
— Вот что, Алексей, — сказал дед. — Я тебе жену бить не дозволяю. Подлое это дело — баб увечить. Не дозволяю! Понял?
— Ее словами образумишь? — горячился отец. — Ее ни в котле не вываришь, ни в ступе не истолчешь. Грозится еще — по голове вальком! Сама на кулак лезет, кликуша!
— Да и ты хорош! — вступилась бабушка. — Держи себя как следует, жена перечить не станет. Не на обновки денег просит. С этаким-то мужем ангельское терпенье лопнет.
Мать, чувствуя защиту, выкрикивала злые, обидные слова. Отец опять рванулся к ней. Дед толкнул его в грудь, посадил на лавку.
— Остепенись, Алеха! Из дому выгоню!
— Меня? — закричал отец. — Меня из дому? Из-за бабы?
— Баба не человек? — гремел густой голос деда. — Ты как судишь?
Стало страшно. Я выскочил в сенцы, ушел в огород. В избе шумели. Шум то стихал, то вновь поднимался, как ветер в лесу. И так жаль было мать, отца, бабушку, деда. Все они родные, хорошие, а вот завели свару. Деньги! Разве нельзя без денег жить?
— Погодите, — шептал я, закрыв глаза, — вырасту большой, начну много-много зарабатывать, все отдам семье, и не будет ссор, драк.
Думы возносили меня высоко, и я чувствовал себя прямо-таки богатырем, способным добыть горы денег. Да и нужны ли горы? Ведь принеси отец хотя бы двадцать — тридцать рублей, мать была бы довольна.
Перебранка наконец-то затихла. Я вернулся в избу. Наши сидели за столом, очень мирно разговаривали. Мать успела переодеться в праздничное платье. На столе пыхтел самовар, дымилась вареная картошка.
Отец налил в рюмки. Все чокнулись.
— С прибытием, Алексей Спиридоныч! — сказал дед. — Первая колом…
Налили по второй, по третьей. За столом стало шумно. Дед когда-то служил в солдатах. Там обучили его грамоте, принес он с царской службы много веселых и грустных песен, распевал их, будучи в ударе. Теперь он затянул свою любимую песню об уральских казаках.
Как на Черном ярике, как на Черном ярике
Ехали татары — сорок тысяч лошадей.
Отец и Данила подпевают:
И покрылся берег, и покрылся берег
Сотнями порубанных, пострелянных людей.
Раненый казак умирает. Горька его судьба:
Тело мое смуглое, кости мои белые
Вороны да волки вдоль по степи разнесут,
Очи мои карие, кудри мои русые
Ковылем-травою да бурьяном прорастут.
От песни мороз по коже. Я слышал ее уже много раз, и меня всегда удивляет веселый припев:
Любо, братцы, любо! Любо, братцы, жить!
С нашим атаманом не приходится тужить.
Казаки! Эх, нечего тужить!
— Сильна песня! — сказал Данила. — Не хуже наших, старательских.
Я подсел к матери. Она ласково и нежно поглядывала на отца, угощала его и Меня; Данила потешал всех рассказами о бродягах-золотоискателях, о нечистой силе, отводящей людей от скрытого в горах богатства.
Обед кончился. Отец взял гармонь, заиграл приисковый перепляс.
— Спляшем, что ли? — спросил Данила. — Без плясу праздник не праздник. На том стоит матушка Русь. Эх, веселись, душа и тело, вся получка пролетела!
Мать пристукнула каблуками, выплыла на середину избы. Лицо ее потемнело, глаза оживились, губы сжаты. Данила сперва мелко семенил ногами, словно раскачивал свое длинное тело, потом волчком закрутился возле матери, пошел вприсядку.
Мать сняла с головы кашемировый платок, помахивала им, дразня Данилу. Движения ее были легки, красивы, задорны.
Дед похлопывал в ладоши, какими-то чудными вздохами — и эх! и эх! — подхлестывал плясунов и сам притопывал ногами. Бабушка стояла у печки, зардевшись от счастья. Она любила веселье и лад в семье, сама была когда-то мастерица плясать.
Гармонь пела в руках отца, будоражила всех, вызывала дрожь в сердце, и мне казалось — я не слыхал еще такой игры, проникающей в душу, не видал такой пляски. Было что-то простое и прекрасное. Я с трепетом ждал: вот-вот лопнут голубые мехи, захлебнется гармонь, упадут, задохнувшись, плясуны. А отец играл, откинув голову, сощурив глаза. Гармонь пела все тоньше и тоньше, забористее, и плясуны вихрем носились по полу.
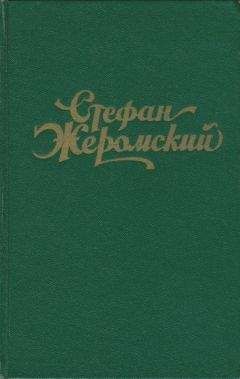
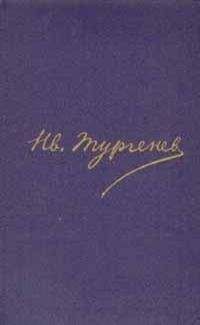
![Николай Сухов - Донская повесть. Наташина жалость [Повести]](/uploads/posts/books/133680/133680.jpg)