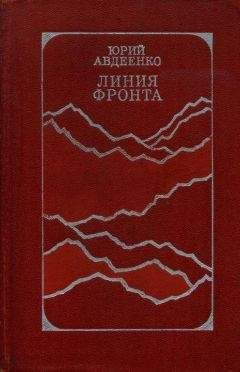Юрий Авдеенко - Дикий хмель
— Списали меня, как старый паровоз, — без улыбки, очень грустно сказал Иван Сидорович Доронин, когда я подошла к нему и поздоровалась.
— Почему же списали? Уходите на заслуженный отдых, — фальшивым, не своим голосом сказала я.
— Ты когда-нибудь видела паровозное кладбище?
— Нет.
— Стоят они там, бедные, на заслуженном отдыхе. В ржавчину влюбленные.
— Вы не заржавеете, Иван Сидорович, — как можно бодрее пошутила я.
— Точно. Если Доронин не нужен людям, он говорит им: прощай!
Мне показалось, что от Ивана Сидоровича пахло водкой. Но ведь было еще раннее утро. И конечно же я ошибалась.
3— Алло! Наташа? Это я.
— Здравствуйте, Анна Васильевна.
— Здравствуй, дорогой начальник. Здравствуй... Ну, как первый день?
— Нормально, Анна Васильевна.
— Это хорошо, что нормально. Как люди?
— Люди прежние.
— Это очень важно. Важно, когда люди прежние и не изменились.
— А разве так бывает, что люди меняются?
— Бывает. И гораздо чаще, чем ты думаешь.
4Не знаю почему, но редакция журнала, вначале обнадежив Бурова, вдруг вернула его рассказ. Вернула в большом желтом конверте. С большими фирменными знаками. И маленьким листочком внутри, на котором машинистка напечатала:
«Уважаемый товарищ Буров!
Мы прочитали Ваш рассказ. В нем есть отдельные удачи, связанные с образом старого рабочего Афонина. Однако в портфеле редакции есть более серьезные рассказы на тему о рабочем классе.
Желаем Вам творческого роста!
Рукопись возвращаем».
Это «желаем творческого роста» довело Бурова до белого каления. Два дня — субботу и воскресенье — он курил лежа, поднимаясь только к столу и в туалет.
На третий день явился на работу и опубликовал рассказ в своей многотиражке.
В каждом последнем номере месяца на второй полосе многотиражки появлялась «Литературная страница». Рабочие и служащие фабрики, склонные к сочинению стихов и коротких рассказов, публиковали там свои произведения. Может, это были и не очень хорошие произведения, но писали их наши люди, и это было приятно.
Когда Буров опубликовал рассказ «Хобби», все, конечно, в рабочем Афонине узнали Ивана Сидоровича Доронина. Узнали прежде всего благодаря «проздравлять», «мужами», «ветеринарами». Но рассказ — не фельетон. Прочитали — и забыли. Никаких споров, никакого волнения. Возможно, кому-нибудь рассказ и не понравился, но вслух об этом никто не говорил.
Читал ли рассказ сам Доронин, мы не знали. Сдав дела, Иван Сидорович перестал появляться на фабрике. Сказывали, что он получил путевку и уехал в дом отдыха. Вполне возможно. Уже был не сезон, и фабком предлагал путевки направо и налево.
Видимо, одним из счастливых чудес жизни является тот факт, что незаменимых людей все-таки нет. Конечно, человечество не однажды расставалось с гениями, равных которым не может обрести и по сю пору. Однако на смену одному гению приходят десять талантливых людей, на смену талантливому приходят десять просто одаренных... Ушедшего на пенсию рядового работника меняет другой рядовой работник. Все нормально. Все по жизни.
По жизни и то, что мы не можем увековечить в бронзе и даже в гипсе всех местных тружеников, проработавших, двадцать пять — тридцать лет, потому что деды и прадеды наши работали еще больше. И оставили о себе только один памятник — отечество наше. И за это им спасибо.
Словом, Иван Сидорович ушел, а фабрика работала. Бригада Закурдаевой выполнила обязательства. И взяла новые. Художественная самодеятельность готовилась к новогоднему концерту. Группа народного контроля обнаружила неполадки в столовой. Мы давно нацеливались на эту столовую. И теперь шеф-повар, солидная горластая тетенька, написала заявление об уходе, сделав в нем шестнадцать орфографических ошибок...
В тот год фильм «Воспоминание о будущем» еще не демонстрировался на московских экранах...
Вечер обещал быть самым обыкновенным, одним из. тех, которые наслаиваются один на другой, похожие, как листы чистой тетради. Я гладила белье, а Буров сидел в кресле с блокнотом в руках. И читал громко и протяжно, словно с амвона:
— «И я видел: и вот бурный ветер шел от севера, великое облако, и клубящийся огонь, и сияние вокруг него...»
Буров опустил блокнот, спросил обычным голосом:
— Ты обратила внимание, когда по телеку показывают запуск космических кораблей, то четыре двигателя уходящей в небо ракеты смотрятся как огненный крест. Может быть, тысячелетия назад именно такой крест навеял идею креста церковного. Не случайно в архитектуре всех церквей мира есть что-то космическое. Устремленное ввысь...
— Хочешь сказать, что твой пророк Иезекииля видел космический корабль?
— Не торопись. Послушай дальше. «А из середины его как бы свет пламени из середины огня; их было подобие четырех животных — и таков был вид их: облик их был, как у человека. И у каждого — четыре лица, и у каждого из них четыре крыла. А ноги их — ноги прямые, и ступни ног их — как ступня ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь (и крылья их легкие)».
Смотреть на Бурова было забавно: лысина розовая, на лбу испарина. Все-таки он увлекающаяся натура. Это, конечно, одна из причин нашего брака. Любовь с первого взгляда.
— Парадоксально, однако эти много веков назад написанные строки, — самое современное описание космонавтов в автономном полете с реактивными дюзами на ногах.
— Попробуй себя в жанре фантастики. Похоже, что это у тебя получается, — сказала я.
— Скептиком быть просто и выигрышно. Но вот задумайся на минуту, если правда, а это утверждает наука, что вселенная не имеет начала и конца не только в пространстве, но и во времени, что она всегда была и всегда будет, то разве фантастично допускать где-то наличие такого уровня техники, при котором попасть из одной галактики в другую проще, чем из Медведкова на Арбат.
— Вот с этим я согласна. Даже на земле можно быстрее попасть из Москвы в Адлер, чем из Медведкова на Арбат.
— Говорят, из Бескудникова тоже.
— Бескудниково вне конкуренции. Но это слабое утешение.
Буров опять взялся за блокнот.
— «И руки человеческие были под крыльями их. И животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния...»
Он читал еще. Но я уже не слушала его. Я думала: все-таки у человека должна быть цель. Какая? Построить ли дом. Родить ли ребенка. Написать ли книгу. Покорить ли недоступную вершину. Это неважно. Пусть она будет только благородная. Пусть она будет смыслом жизни или какого-то отрезка ее.
И не надо путать цель с хобби. Мне кажется, Буров путает. Для него «писание вещи» такое же хобби, как и чтение священного писания...
В прихожей подал голос звонок.
К нам редко приходили гости, возможно, поэтому я всегда вздрагивала от звонков в прихожей, как от внезапного прикосновения чужой руки. Посмотрела на Бурова. Сидит барином в кресле, делает вид, что не слышит никаких звонков. Это у него здорово получается — замшелая невозмутимость лесного пня. Хотя в игривом, благом настроении он склонен толковать свое спокойствие как раз в противоположном смысле, мурлыкая под нос:
Мы с тобой два дерева,
Остальные пни.
— Буров, — сказала я. — Иезекииля может подождать. Терпение — удел пророков.
Он гмыкнул, отложил записки. Подчеркивая мою абсолютную правоту, затрусил к дверям, сутулясь и переваливаясь, точно пенсионер на физзарядке.
Потом я уловила звяканье цепочки, щелканье замка. Не очень радостное, скорее озабоченное, восклицание Бурова:
— О, прошу! Входите, входите!
Сразу вспомнила, что Буров в старом, полинявшем спортивном костюме, а я непричесанная, да и халат на мне не первый сорт. Но тут из прихожей донесся голос, знакомый, хрипловатый. И слова, которые я слушала, быть может, сотни раз:
— Вот решил с новосельем проздравить.
Доронин Иван Сидорович.
Я не обрадовалась его приходу. Сразу поняла, что пришел он неспроста. Где-то в дальних уголках души считала, что мы с Буровым виноваты перед Дорониным. Я на фабрике занимаю должность Ивана Сидоровича, Буров написал свой пресловутый рассказ...
Вышла к мужчинам. Сказала как можно веселее:
— Молодец, Иван Сидорович! Взял и приехал. Жди, когда хозяева догадаются пригласить.
Доронин, оглядываясь, потирал ладонь о ладонь:
— Благодать у вас, благодать.
— Сейчас чай пить будем, а пока он поспеет, Андрей угостит вас более горячительными напитками, — сказала я.
При чужих людях я всегда называла мужа по имени. Наш супружеский демократизм посторонним мог быть непонятен.
У Бурова был бар. Вернее, бар был в серванте. Но Буров заставил его бутылками, большей частью импортными с умопомрачительными этикетками. Доронин всплеснул руками, увидев все такое богатство.