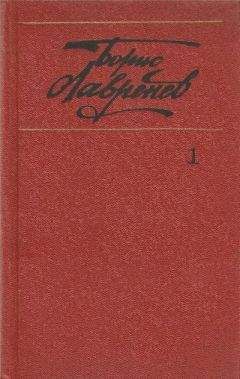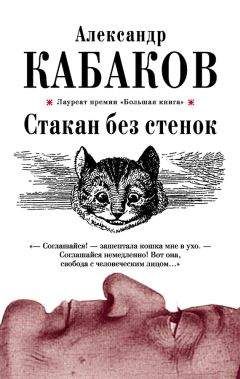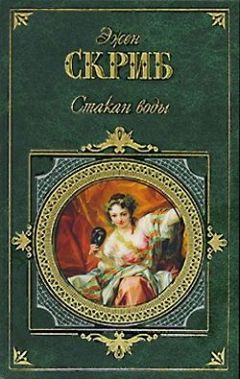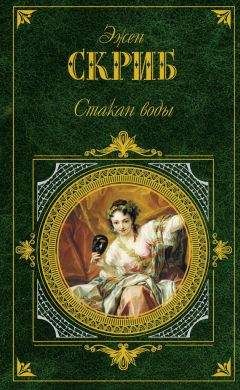Борис Лавренёв - Собрание сочинений. т.2. Повести и рассказы
Он был честным и верным служакой прежде всего. Кроме того, он не оставлял на земле никого и ничего, о чем можно было бы жалеть. Если бы фирма пожелала отправить его в межпланетное пространство, он полетел бы, потому что он служил и должен был выполнять служебное предписание. А до того, что находились безумцы, добровольно лезшие в такое предприятие, ему не было дела.
4Два последних обитателя обтянутой кожей гондолы качавшейся на спокойно-опаловой воде бухты Джерри-Бай серой птицы были северяне.
Физик и метеоролог доктор Эриксен и другой… Другой, который от завистливой, мелочной и злобной человеческой толпы получил по праву звание Победителя.
Доктор Эриксен был молод, моложе всех спутников, моложе даже Жаклин, которой официально было двадцать четыре года и неофициально — тридцать один. Поэтому доктор Эриксен, сознавая все неприличие своих двадцати трех лет, старался в этом испытанном и многоопытном обществе держаться скромно и незаметно, насколько это позволял его огромный рост молодого викинга.
Он был единственным, кто не мог выпрямиться во весь рост в компактной каюте гидроплана. При каждой такой попытке его темя ощутительно упиралось в жесткий потолок и он растерянно горбил спину и сутулился.
Доктор Эриксен испытывал глубокое уважение к своим старшим спутникам и рыцарски преклонялся перед Жаклин.
Он, выросший в суровой стране, в старых стенах древнего университета, преданный науке точной и трезвой, заблуждался в самых простых истинах той обыденной жизни, которая текла вне лабораторий и аудиторий.
И участие в полете маленькой хрупкой женщины, с рыжеватыми кудрями и обаятельно-слабой улыбкой, казалось ему сверхчеловеческим героизмом, перед которым должно было стать на колени с обнаженной головой.
Он совершенно не способен был понять, что Жаклин и ее возлюбленный ринулись в опасное, почти смертельное, предприятие только от скуки и томления, повинуясь древним зовам горячей галльской крови, неугомонно бившейся в их телах, толкая на авантюры, на риск, на безумие ради только того, чтобы эта неугомонная кровь не обратилась в жидкую, укрощенную буднями розоватую водицу, текущую в жилах европейского мещанина.
Поэтому всякий раз, когда в дни, предшествовавшие полету, Жаклин обращалась к доктору с каким-нибудь мимолетным вопросом, доктор краснел, у него пропадал дар слова, и ему становилось грустно и нежно хорошо.
И Жаклин, заметившей это, нравилось поддразнивать этого ребенка-великана и вызывать у него приступы лирической и восхищенной грусти.
И в кабине гидроплана она поместилась рядом с ним на передних креслах, чтобы и во время полета иметь его своим соседом. Ей льстило это детское и чистое обожествление ее грешной женственности.
Доктор Эриксен считал свое участие в экспедиции высокой честью для себя и для своей науки, которой он служил так же верно и самоотверженно, как бортмеханик Вальтер Штраль служил идолу германской моторостроительной промышленности. Но в то время как Штраль помнил и о себе, о выгодах, которые принесет и ему его служение, доктор Эриксен думал только о пользе геофизики и метеорологии.
Арктика, мрачная приполярная область, мировой склад вьюг, метелей, циклонов, низких давлений, снегов, инея, магнитных бурь, загадочных течений и холодных вихрей, кладовая насморков, бронхитов, гриппов, казалась доктору Эриксену враждебным чудовищем, врагом человеческого рода, которого нужно поразить в ахиллесову пяту, в не нанесенную на карту воображаемую точку полюса, беспощадным и спасительным копьем науки.
Доктор Эриксен тоже был романтиком. На сером кожаном кресле гидроплана он ощущал себя Георгием Победоносцем, воссевшим на крылатого коня, чтобы стереть главу враждебного науке и человечеству змия.
И, может быть, поэтому он особенно остро ощущал удовольствие от сознания, что свидетельницей его возвышенного научного подвига является красивая, молодая и пленительная женщина, от которой пахло нежными и чудесными ароматами, непохожими на запахи химических реактивов в университетской лаборатории.
И доктор Эриксен мечтал, что в полете ему представится случай заслужить благодарный взгляд своей соседки каким-нибудь деянием рыцарской доблести.
Только благодарный взгляд. Не больше. О большем доктор Эриксен не думал, не хотел думать. Он был северянин, скромный и целомудренный; все женщины казались ему неземными существами, к которым страшно прикоснуться.
В маленьком городке на берегу южного фиорда он оставил такое же слетевшее с горных высот создание, с тяжелыми белокурыми косами и синими, как раствор метиленовой синьки, очами.
Неземное создание называлось фрекен Анна Демсун и было до корней волос пламенно и безнадежно влюблено в гигантский рост и безмятежно ласковое лицо молодого жреца метеорологии.
Безнадежно — потому что доктор Эриксен не представлял себе, что эти дети неба, с длинными косами и певучими голосами, могут заражаться такой грешной и неприличной болезнью, как человеческая страсть, и что от одного намека на нее такой чистый ангел, как фрекен Анна, растает, как восковой херувим над елочной свечкой, и без остатка исчезнет в синеве.
И как ни пробовала фрекен Анна деликатно и осторожно, со всей свойственной женщинам севера тихой настойчивостью, дать понять своему обожателю, что она не прочь испытать самое человеческое блаженство в его громадных и сильных руках, — доктор Эриксен не понимал этого и смотрел на нее безмятежно светлым обожающим взором.
Его счастье было полно и совершенно. Он мог смотреть на свой предмет, и этого ему было достаточно. В двадцать три года доктор Эриксен был девственником, и сны его были безгрешны, как у двухлетнего мальчугана.
Но, вступив в кабину гидроплана, он в тот же миг позабыл всех женщин. У его места на стене и на полу медно блестел хаос метеорологических и физических приборов. Они целиком поглотили его внимание. Неловко ворочаясь громоздким телом в узкой клетушке, он перебирал и пересматривал их один за другим, и руки его ласкали медь и стекло с нежностью любовника. Он попал в свой привычный, увлекательный целесообразностью цифр и формул, прекрасный мир.
Заднее широкое кресло в суживавшемся конце кабины занял Победитель. Он снял шлем авиатора, и на матово-сером фоне спинки кресла казались особенно чисто и нежно белыми его коротко остриженные седые волосы и особенно крупными и выразительными — резкие и тяжелые углы головы мыслителя.
Непрестанные годы мысли и непрестанные годы борьбы отложили на этом темном, словно изваянном из старого дерева, лице отчетливые черты решимости, зоркости, широкого ясновидения прямых и трудных путей.
На шестом десятке своей жизни он преодолел все, что было назначено и что хотелось ему преодолеть, и от этого приобрел еще одно выражение — чуть-чуть скучающей уверенности и покоя.
И немного зрелой, глубоко проникающей иронии залегло в складках узких синеватых губ, как будто губы эти сложились для того, чтобы сказать:
«Вот сделано все, пройдены все пути и достигнуты все пределы. И что же? Мир, не имеющий больше тайн, становится скучен и тесен».
Семья, в которой полвека с лишком назад родился сероглазый мальчик, никогда не думала, что ему назначена судьба сорвать остатки покровов с последних тайн земного шара.
В этой семье из столетия в столетие просто родились, вырастали и скромно и верно служили отечеству в банках, таможнях, судах простые и мирные люди, вполне удовлетворявшиеся сдвинутыми каменистыми горизонтами родных фиордов и тихой честной памятью в сердцах неприхотливых сограждан.
И тот, кому назначено было стать Победителем, на первой трети своей жизни, размеренно проделывал путь своих отцов и готовился стать незаметным провинциальным врачом, чтобы честно врачевать насморки и геморрои у бухгалтеров и катары кишок у городских лавочниц.
Но в один весенний день его позвало море. Он вышел из пропитанного трупным и формалиновым запахом анатомического театра и пошел подышать свежим ветром на приморском бульваре. Он зашел в уединенную часть бульвара на холм, покрытый серебристой хвоей калифорнийских елей.
Под блеклым майским солнцем дымился и шумел порт; серебряной сельдяной чешуей переливалась вода за молом; четырехмачтовый, парусник уходил в Аргентину; на его палубе, как связки спаржи, лежали ободранные сосновые стволы. Оттуда, со сверкающей воды, на холм шел крутой, упрямый, соленый и волнующий ветер.
Океанский ветер. Стремительный, непокорный, никем не укрощенный ветер голубых зыбей, далеких странствований, неоткрытых далей.
Он щекотал студента мягкими и влажными щупальцами, он кружил голову, пьянил, будоражил, сводил с ума.
И внезапно побледневший, выронив из рук анатомический атлас Шпальтегольца, студент вытянулся вперед, подставил грудь ветру, смотря в морскую прозрачную глубину восторженно распахнутыми глазами. Он в одну секунду утратил рассеянный мигающий взгляд городского жителя, утомленный шрифтами книг и искусственным освещением.