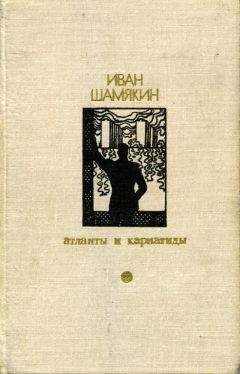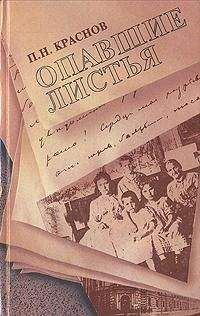Иван Шамякин - Атланты и кариатиды
— А кто тебе дал право говорить от имени всех архитекторов? Ты у нас спрашивал?
Сосновский погрозил ему карандашом, но с доброй улыбкой. И, странно, эта улыбка секретаря обкома… нет, не сама улыбка — человеческое тепло сняло боль в сердце. Виктор глубоко вздохнул, проверяя. Нет, не болит. Пропал страх. И вернулся интерес к тому, о чем тут говорили.
Максима поддержал профессор пединститута, биолог, который говорил о роще с умилением; страшно стало, когда он обрисовал, чего может стоить городу потеря такого массива. Неожиданно поддержал начальник ГАИ, присутствие которого здесь сперва удивило. Полковник развил замечание Карнача о том, что строительство такого объекта в Заречном районе создаст для города серьезную транспортную проблему.
Игнатович не просил слова. Сосновский спросил, не хочет ли он выступить.
Герасим Петрович сказал, что комбинат — большой подарок и они, представители городской власти, должны сделать и сделают все, чтоб комбинат строился в их городе, от такого строительства зависят его рост, будущее.
Выступление было довольно прозрачным ответом Карначу, даже таило нотки угрозы, хотя Игнатович не только не назвал фамилии главного архитектора, но и словом не обмолвился о споре по поводу выбора места под комбинат, как будто вопрос этот был настолько мелкий, что и говорить о нем не стоило.
А Сосновский вроде бы поддержал Максима. Он сказал:
— Ну что ж, можно считать, что обмен мнениями был полезен, хотя, правда, не все подготовились к разговору так основательно, как товарищ Карнач.
Своего мнения, где же посадить комбинат, Сосновский не высказал.
— Девушки наши, — как бы выражая им благодарность, кивнул он в сторону стенографисток, — все записали до последней запятой, это они умеют здорово делать. Никто пускай не боится, что в его речи что-нибудь пропущено. Все эти материалы, — сказал он почему-то Игнатовичу, — мы представим в инстанции, которым надлежит принять окончательное решение о месте строительства. Не беспокойтесь, решение будет принято правильное. — В зале засмеялись. — Спасибо за участие. Всего хорошего, — и поднялся энергично, по-молодому, с поспешностью человека, который дорожит каждой минутой.
Однако все равно его задержали. Один. Второй. Максим тоже подошел и попросил, чтоб Сосновский принял его — на две минуты.
— По этому вопросу? Не принимаю. Никаких секретных переговоров. Все надо было сказать здесь.
— Нет, не по этому.
— Тогда подожди, пока я попрощаюсь с гостями. Гости, брат, есть гости. Они у нас всегда нежданные, но желанные, и принимать их надо без очереди. Иначе уроним марку.
Когда из зала почти все уже вышли, Максим вспомнил про Шугачева. Замысел их с показом проектов Игнатович сорвал. Шугачев — поэт и романтик, несмотря на свой внешний рационализм, он легко загорается. Он, очевидно, предполагал, что проект его, как говорится, произведет фурор, что все внимание Сосновского, представителя Госстроя, архитекторов, строителей переключится с комбината на его микрорайон. Но не произошло ничего даже близкого к его ожиданиям.
Максим знал, Шугачев будет расстроен. Но не думал, что для него это почти трагедия. И дал промашку, сказав:
— Виктор, подожди. Я загляну к Сосновскому и потом помогу тебе довезти твои картинки.
Обычная их терминология: «ничего картиночка», «картинка для букваря» и т. д. Но Шугачева, который считал, что последняя его надежда на экспериментальный район рухнула, привычное слово это обожгло. Он бросился на Максима, будто разъяренный бык, ткнул в лицо трубкой ватмана.
— Для тебя это «картинки»! А для меня жизнь! Провокатор ты! Тебе лишь бы себя показать. Пусть скандал, только бы покрасоваться, только бы побыть на виду! Позер!
Максима это ошарашило. Он сказал почти шепотом:
— Дурак ты, Витя.
Виктор закричал:
— Конечно, я дурак! Один ты умный!
Настроение было испорчено.
У Сосновского сидел Игнатович и, по всему видно было, не собирался уходить, когда пригласили Максима. Может быть, секретари договорились, что примут главного архитектора вдвоем. Возможно, думали, что у него, как всегда, архитектурные вопросы.
Максиму не понравилось присутствие свояка, но что поделаешь.
Должен был сесть напротив, через столик, приставленный к большому письменному столу, за которым Сосновский что-то быстро записывал в толстый блокнот-дневник, знакомый всему партактиву; про блокнот этот шутили: «Попадешь в Лёнин синодик».
Игнатович чуть снисходительно, как младшему, но, в общем, дружелюбно улыбнулся Максиму и спросил:
— Ну что, борец, намерен воевать за Берег?
— До последнего вздоха.
Сосновский оторвался от блокнота и хохотнул.
— Э-э, если пошли такие высокие слова, химики могут спать спокойно. Белый Берег у них в кармане.
Игнатович сказал серьезно, явно желая оправдать свою позицию на совещании:
— Думаешь, мы не разделяем твоей озабоченности? Но мы еще больше озабочены тем, что потеряем, если комбинат передадут в другой город. Что для нас дороже?
— Не агитируй его, Герасим Петрович. Скажи спасибо, что своей позицией архитектор не дает тебе впасть в спячку.
Максим увидел, как у Игнатовича дернулась щека, одна, потом другая, словно он катал во рту горькую пилюлю и никак не мог проглотить.
— Однако с этим вопросом все. Как договорились, — Сосновский слегка хлопнул ладонями по столу и обратился к Максиму официально, с заметным нетерпением занятого человека: — Что у вас?
Максим начал рассказывать о молодых строителях, у которых родилась двойня.
Сосновский сразу понял, что разговор пойдет о квартире, и вздохнул. Тут случай действительно необычный. Но вот сидит секретарь горкома. Ему, как говорится, и карты в руки.
— Послушайте, Карнач, а почему вам не нажать на своего председателя?
— На Кислюка? Нажал.
— И что?
— Договорились, что… будет выделена квартира в доме речников из процентов горсовета.
— Так вы пришли мне сообщить эту радостную весть? — иронически спросил Сосновский.
— Потом я узнал, что квартира передается другому…
— Кому?
Максим набрал воздуха, взглянул на Игнатовича, присутствие которого было сейчас совершенно нежелательно.
— Вашему сыну.
Игнатович смущенно опустил глаза, как будто это относилось к нему.
А Сосновский некоторое время с любопытством смотрел на человека, который попросился на прием, чтоб сказать ему такую вещь. Максим не выдержал, отвел взгляд. Потом жалел: не успел разглядеть, что было в глазах у Леонида Миновича. Потому что через минуту Сосновский наклонился над столом, будто собираясь боднуть кого-то. Сквозь мягкие, как у ребенка, седые и уже сильно поредевшие волосы видно было, как наливается кровью темя.
Наступила неловкая пауза.
Наконец Игнатович поднял на Максима глаза и взглядом выразил осуждение: «Дурень ты бестактный. Ты что, не мог прийти ко мне?»
Максим подумал: «А в самом деле, почему я не пошел к Герасиму? Почему даже мысли не явилось рассказать об этом ему? Двадцать лет дружили!» — И ему стало грустно и больно, и донкихотство это показалось неуместным. Стало неловко перед Сосновским, которого он искренне уважает. Однако же не попросишь прощения. Смешно было бы.
Леонид Минович провел ладонью по лицу, как бы стер впечатление от слов Карнача. И в самом деле, когда поднял голову и взглянул, лицо его было спокойно, со всегдашней смешинкой в глазах, разве только резче, чем минуту назад, проступила усталость человека, который рано начал свой рабочий день и напряженно работал.
— Послушай, Карнач, будь откровенным до конца. Допустим, я не поломаю этого. Что будешь делать? — неожиданно весело и на «ты» спросил Сосновский.
— Ничего. Просто меня постигнет еще одно разочарование.
Сосновский откинулся на спинку кресла, лукаво прищурился и снова оглядел Максима с нескрываемым любопытством.
— Вот ты какой! — и неожиданно упруго встал.
Максим тоже поднялся, несколько растерянный, не зная, как распрощаться после того, что он здесь сказал. Сосновский выручил его, протянул через стол руку.
— Спасибо за откровенность.
Когда за Карначом закрылась дверь, Сосновский быстро прошел к этой же двери и даже какой-то миг постоял перед ней. Потом вернулся к столу. Остановился перед Игнатовичем, который все еще прятал глаза, оттянул резинки подтяжек, будто намереваясь щелкнуть себя по груди.
— Ты видел, какая заноза!
— Трудно с ним работать, — пожаловался Игнатович.
— Нелегко, — согласился Сосновский, возвращаясь на свое место, и тут же сказал уже другим голосом: — Пришли ко мне своего умненького мэра. Я с него, чертова сына, стружку сниму.
Оставшись один, Леонид Минович попросил секретаршу никого к нему не пускать и долго ходил по просторному кабинету, останавливаясь то перед книжными шкафами, разглядывая книги, то перед окном, наблюдая за людьми и машинами. Нельзя сказать, что он очень уж разволновался или возмутился. Нет, человеческие слабости были ему хорошо известны, и если что тревожило, так это то, что слабостей этих не становится меньше. Да, не очень приятно, когда тебе в глаза бросают такой упрек. Разумеется, Кислюк — дурак. Но Леонид Минович не искал виновных. Виноват он сам. Не первый раз его слабость, которую называют добротой, подводит.