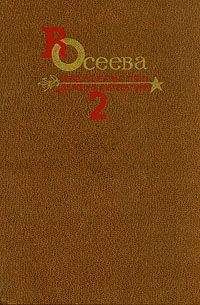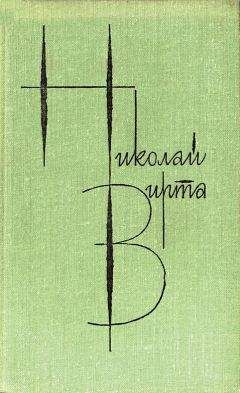Валентин Катаев - Собрание сочинений в девяти томах. Том 1. Рассказы и сказки.
Все взоры, казалось, обратились в этот миг на Ерохина и узнали его. Он почувствовал едкий запах ладана. Этот запах вдруг показался ему похожим на запах эфира в палате, где умирала жена. «Неправда, — хотел он закричать, — неправда, это бензин. Это...» — но у него посинело в глазах. Ерохин пошатнулся, страшным усилием воли преодолел обморок, надел папаху и со злостью вырвался на свежий воздух. Некоторые из стоящих на паперти действительно узнали его. Произошло небольшое движение. Но он уже бежал по улице, кусая усы и спотыкаясь.
IVВпоследствии Ерохин рассказывал, что эти минуты в церкви были самыми ужасными из тех, какие он испытал за все время, пока не примирился окончательно со смертью жены. Конечно, это не был мучительный стыд раскаяния. Нет, это была жгучая обида, слишком грубое, жестокое и нелепое публичное оскорбление самого сокровенного, самого человеческого, самого дорогого ему чувства — памяти и любви к покойной жене, которая не была ни в чем виновата.
Сжимая кулаки, он готов был броситься назад в церковь и заставить замолчать проповедника. Ерохин вошел в парикмахерскую и попросил себя побрить, постричь и вымыть голову шампунем. С помолодевшим после бритья, осунувшимся лицом, трогая пальцем подрезанную по-английски щеточку усов, благоухая одеколоном, Ерохин вошел в свою комнату, где он не был шесть суток. Кое-как прибранная соседями, темная от копоти, опустошенная, она сохраняла свежие следы катастрофы. Ежась от озноба и холода, стоящего в комнате, Ерохин заперся на ключ и оставался там до позднего вечера, не зажигая огня, в полной тишине, не нарушаемой ни одним звуком. Соседи уже начинали тревожиться. Однако в начале десятого замок щелкнул. Торопясь, чтобы никого не встретить в коридоре или на лестнице, Ерохин спустился вниз и вышел на улицу. Он медленно побрел по ней, ежась и кашляя и потирая на груди руки. Он долго шел, пересек весь город и наконец остановился перед мещанским деревянным домиком, стоящим на горе, на перекрестке двух переулков, круто спускавшихся к реке.
В окнах горел слабый свет. Ерохин поднялся по скрипучим, обледенелым ступеням на крыльцо и зажег спичку. При фиалковом ее огне он увидел тусклую медную дощечку и прочитал: «Отец Григорий Иоаннович Смирнов». Ерохин дернул за кривую проволоку. Одновременно со звуком дилинькнувшего колокольчика за дверью, обитой войлоком и клеенкой, глухо заворчала и тявкнула собака. Потом громыхнуло ведро и со стуком упал железный крюк. Дверь приоткрылась.
— Кто там? — спросил в щель суровый голос.
Не отвечая, Ерохин открыл дверь и шагнул в темные сени. Фигура открывшего отступила. Ерохин закрыл дверь, нашарил впотьмах крюк и опустил его в петлю.
— Не узнаю, — произнес суровый голос и дрогнул, — не узнаю...
Ерохин тщательно вытер ноги о подвернувшийся половик. Они оба, один наступая, другой отступая, молча двигались через сени, пока не попали в освещенную лампадой комнату. Тут они ясно увидели друг друга. Зажав в кулаке острый наперсный крест, прижимая его к плоской груди, как кинжал, священник смотрел на Ерохина глазами, полными ужаса, судорожно ища позади себя опоры и не находя ее. А Ерохин, косо улыбаясь и осторожно похрустывая косточками пальцев, прошелся по комнате, осмотрительно ступая по узкому половичку, как по мостику. Казалось, он не замечал священника, весь погруженный в какие-то свои, одному ему интересные мысли.
— Я кликну... — проговорил отец Григорий высыхающим голосом и задохся. — Я кликну... людей...
Кулак, сжимавший крест, задрожал у него на груди.
— Не то, — задумчиво и почти мягко сказал Ерохин, махнув рукой, — не то. Не беспокойтесь!
Отец Григорий отступил на шаг, и тут его рука нашла позади опору — ребро стола. Он прочно ухватился за него.
— Тогда зачем пришли? — сурово спросил он, и вдруг ему показалось, что он понял. Сила возвращенной власти поднялась в нем, и священник выпрямился во весь свой небольшой, тщедушный рост. — Не ко мне, не ко мне, — сказал он, повышая торжественный, торжествующий голос, треснувший от волнения. — Аз есмь недостойный иерей. Не ко мне... нет... нет...
Отец Григорий поднял руку, словно отгораживаясь и отстраняясь.
— Нет, не ко мне... К нему, к нему!
Широкий, подвернутый рукав рясы обнажил худую, бледную кисть, протянутую в угол. Там, в божнице, перед темным, почти черным золотом икон светилась лампадка.
— К нему, к нему! — продолжал говорить отец Григорий, задыхаясь теперь и понижая голос до шепота. — К нему!
Его тощие, бескровные щеки, точно исхлестанные кнутом и зарубцевавшиеся вокруг рта, мертво белели при нищем свете лампадки. Ерохин вскользь на ходу взглянул на божницу и опять сделал рукой, точно отмахиваясь.
— Не то, Григорий Иванович, не то. Это мы лучше оставим.
Он сел на стул возле голландской печки, жадно положил ладони на ее неровную и горячую, как пирог, поверхность и понурился.
— Тогда зачем же? — сухо спросил священник.
Ерохин молчал. Казалось, что он спит. Из сеней вышла длинная собака и легла у его ног. В комнате было тепло и духовито, но все-таки Ерохин продолжал дрожать мелкой, едва заметной дрожью. Священник заправил и зажег лампу, поставил ее на стол, а сам уселся в кресло и принялся, насупившись, ждать. Наконец Ерохин очнулся. Он поднял голову и красными от утомления глазами осмотрелся.
— Извините, — сказал он в раздумье, — я вас, вероятно, потревожил. Впрочем, я могу и уйти. Я ведь безо всякого повода. Просто так, посидеть. Нужно же мне было куда-нибудь пойти?
— Так, так, — сказал отец Григорий, одобрительно кивая головой и вдруг вскинув короткую подвижную, как пиявка, бровь, — в гости, значит, к врагу. Так, что ли?
Ерохин кивнул головой и улыбнулся.
— К идеологическому противнику. Привычка.
Отец Григорий снова закивал головой.
— Так, так. Понимаю. Для морального удовлетворения? Диспут? Извольте.
Но Ерохин уже не слушал его, погрузившись в раздумье. Его лицо стало печальным.
— Вы меня давеча обидели, — тихо сказал он. — Впрочем, не будем об этом говорить, я не за этим. Я сам иногда... Но как вы могли так оскорбить ее? За что? Почему? Постойте... Не надо ничего говорить... Я все понимаю...
Ерохин снова задумался, потом встал и заходил по комнате своей осмотрительной охотничьей походкой.
— Сегодня утром я ее отвез на кладбище. Она умирала пять суток. Вы знаете, что это такое — умирать пять суток от ожогов? Она заживо гнила. Последние дни ей уже нельзя было делать перевязок, потому что вместе с бинтом отрывались целые полосы гниющего мяса. Представляете себе эту боль? И она терпела. Терпела, чтоб не мучить меня. Она еще думала, что не умрет, а у меня уже в это время кружилась голова и тошнило от ужасного зловония ее гниющего тела, которого ничем нельзя было заглушить. Вся забинтованная, как кукла, она заставляла меня иногда наклоняться к ней и смотреть в глаза. Тогда она говорила: «Ты знаешь, Митя, мне кажется, что я поправлюсь. Медленно, но все-таки поправлюсь. Скажи мне только честно, ты не разлюбишь меня? Ведь без волос я стала форменным уродом. Впрочем, ты не беспокойся, они скоро отрастут. Через год я уже буду завиваться». Иногда, не в силах вытерпеть боли, она начинала плакать горячо и обильно, как ребенок. Я не мог выносить этого плача. Я убегал в дежурную комнату, ложился на диван, закрывал глаза, и меня начинал трясти озноб. Тело мое горело, как от ожогов, — грудь, руки, ноги, живот, — те самые места, которые были обожжены у нее. Я расцарапывал их ногтями до крови. Я готов был содрать с себя кожу, лишь бы ей стало легче. Вот посмотрите.
Ерохин быстро расстегнул ворот гимнастерки и открыл грудь, всю обожженную, расцарапанную, покрытую малиновыми ранами.
— Вот. Вы видите пальцы. То же на ногах и на животе...
Отец Григорий в сильнейшем волнении вскочил с кресла.
— Господи, — воскликнул он, обращаясь лицом к божнице, и медленно перекрестился, — господи, в неизреченной своей мудрости ты являешь грешнику второе чудо! Господи! Да ведь это же стигматы!
И, словно бы в этом слове было нечто неотразимо страшное, он повторил в упоении:
— Стигматы! Стигматы!
Ерохин быстро застегнул ворот и заправил в кушак гимнастерку.
— Ерунда. Крапивная лихорадка. Уртикария — по-латыни, — сказал он через плечо, и глаза его стали остры и упрямы, как у козла. — Обычное явление. На нервной почве. Мне объяснил доктор. Оставим это.
— Стигматы, стигматы, — продолжал, как в бреду, шептать священник, крестясь, — господи, стигматы... Смири душу его!
Но Ерохин уже опять не слушал его. Криво и вместе с тем нежно улыбаясь своим мыслям, он достал пз кармана небольшой сверток и бережно положил на стол возле лампы.
— Вот, — сказал он, — вот все, что от нее осталось. Посмотрите.