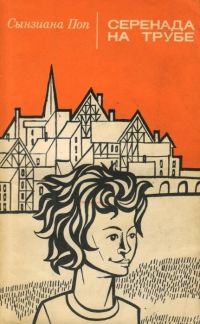Андрей Островский - Напряжение
Он вполне мог остаться в этот день ни с чем, однако после трех часов поисков все же натолкнулся в одной из кип на «личное дело» Богачева. Чтобы не навлечь подозрений, кто именно ему нужен, пришлось покопаться еще с полчаса.
Вернулся в часть, когда время обеда уже кончилось, промерзший до костей (даже ходьба не согрела), обессиленный и злой. Сразу взялся за телефон. Телефонистка отвечала усталым голосом: «Занято, занято»; потом: «Не отвечают…» После обеда наспех (Варенька поторопилась, видя, что он спешит, но принесла все еле теплым) попробовал позвонить сызнова — теперь занята была станция.
В коридоре, возле своего кабинета, он заметил стоявшего унылой тенью Елсукова. Видимо, капитан третьего ранга поджидал его.
— Всеволод Дмитриевич, у вас найдется несколько минут свободного времени? — спросил он, улыбаясь и отводя глаза в сторону.
— Сожалею, ни минуты, — помахал руками Бенедиктов. — У вас что-нибудь срочное ко мне?
— Н-нет, не беспокойтесь, не срочно, я не могу отрывать вас от дел. Но мне крайне необходимо с вами поговорить.
Бенедиктов подумал, прикрыв рукой глаза:
— Давайте завтра, в восемнадцать тридцать. Вас устроит? Приходите, я буду на месте.
Эта просьба была неожиданна для Бенедиктова и удивила его. Первые же проверки в отношении Елсукова и его шурина показали, что выдвинутая им же самим версия о причастности обоих к убийству Лукинского весьма сомнительна. Последующие события начисто сняли с них подозрения, и интерес Бенедиктова к Елсукову тотчас пропал. Но, видимо, Елсукова беспокоило что-то, раз он пришел. Что бы это могло быть?
Дранишников опаздывал. Бенедиктов несколько раз прошелся по мостику. Две пары львов со снежными тюрбанами лежали на разных берегах канала, друг против друга, смиренно положив лапы и держа в зубах изогнутые прутья, отчего мостик казался висячим. Львы лежали тут уже сто лет, добродушно взирая на поколения людей и происходящие с ними события, встречали и провожали поколения влюбленных. Бенедиктов тоже гулял здесь с Тасей, — это был «ее» район, район Коломны и Театральной площади, знакомый ей с детства, — и возле льва в первый раз поцеловал ее.
После смерти отца у Бенедиктова никого из близких, кроме Таси, почти не осталось. Был, правда, дядя, но он давно перебрался с семьей на Дальний Восток и редко писал; еще в Ленинграде жил сводный (по матери) брат, Андрей, с которым настоящей близости у Всеволода не возникло.
Всеволод Дмитриевич был всего на шесть лет старше Таси, но построил свои отношения так, что она постоянно считала себя девочкой. Она была его баловнем: он легко прощал ей капризы и упрямства, зная, что она любит его искренне и верно, опекал, как опекают детей, а когда они оставались наедине, называл «мышонком».
В последние дни, особенно после того, как умерла тетя Маша, Тася была повседневной его болью и тревогой. Перейти на завод, чтобы жить на казарменном, она отказалась («Все-таки я пока повременю», — сказала она). Жить одной в большой пустой квартире было тяжело и неразумно, однако Бенедиктов ее не переубедил. При каждом свидании он со страхом замечал, что она все больше слабеет. Он отдавал ей все, что удавалось где-нибудь достать, — какие-то горсточки сорной крупы, обломки жмыхов, похожих на прессованные опилки, большую часть своего хлебного пайка… Но после неприятного случая у Дранишникова ему пришлось подумать и о себе…
— Замерзли? Произошла некоторая задержка, — сказал, подходя, Дранишников. Используя передышку, он смахнул снег с пальто, посмотрел на изгиб застывшего в ослепительной белизне канала с чернеющими ноликами решеток: — Красивое место, даже сейчас… Идемте.
В распахнутой настежь темной и смрадной комнате Манькова на Малой Подьяческой в присутствии маленькой невзрачной женщины они провозились долго, но без особой пользы для себя: за исключением чьей-то скомканной записки и номера телефона, нацарапанного на газете, ничего существенного обнаружить не удалось. Вскрытая Дранишниковым на кухне доска в полу безусловно должна была служить крышкой тайника, но под ней зияла пустота…
Зато в старом петербургском доме на Кронверкской им повезло больше.
Сопровождаемые управдомом, молчаливым, без глаза парнем в шинели, один рукав которой был пуст и заправлен под ремень, они поднялись по широкой и просторной лестнице. Комната Манькова, средняя в семикомнатной квартире, была чище, чем на Подьяческой, и почти без мебели — лишь пыльная, ничем не покрытая кровать с никелированными шарами, сдвинутая к центру, да громоздкий комод в углу. Чувствовалось, что в комнате не жили.
Начали с комода. В ящиках были свалены в кучу разное тряпье, флаконы, платяные щетки, пуговицы; в нижнем — инструменты вперемешку с ржавыми гвоздями, шурупами, спутанными мотками проводов… Оставив Дранишникова, который осматривал последний ящик, Бенедиктов прошелся по комнате. Недоумевая, почему кровать сдвинута на середину, откатил ее, поднял с пола серый от грязи, изъеденный молью коврик. Паркет под ним был целый. Вывинтил шары в спинке кровати, пожал плечами…
В это время скрипнула дверь.
— Тимка, ты?..
Бенедиктов резко повернулся, невольно сунул руку в карман.
На пороге темнела бесформенная фигура — старое пальто, большие валенки, рукавицы из овчины; на голове эскимосская шапка с длинными «ушами», замотанными вокруг шеи; под шапкой — шерстяной платок до очков; лицо сморщенное.
— Тимофея нет, мы из уголовного розыска, — сказал Бенедиктов. — Обыск.
— Вижу свет — думал, Тимка пришел… Мне кричать надо, глухой я, плохо слышу.
Бенедиктов подошел, повторил громко, чуть не касаясь губами меха эскимосской шапки. Тот мотнул головой:
— Опять чего натворил Тимофей? Он мо-ожет… Вся квартира от них ходуном ходила. У нас раньше хорошая была квартира, никто никому зла не делал. В первой комнате учительница с дочкой жила, в следующих двух — мастер с завода, многодетный… А въехали эти и превратили квартиру в ад. Сначала, пока отец Тимкин живой был, еще ничего. Отец у него пожарником был, непьющий и тихий, да умер быстро, от разрыва сердца. А мать… Шлюха, самая настоящая шлюха… Когда Тимка мальчишкой был, она сюда, бесстыжая, любовников водила, а его била смертным боем. Ну, а когда он вырос, он ей все припомнил. Такого звону давал! — Старик улыбнулся, показав неестественно белые зубы. — Но блокада началась — к ней перебрался, теплее, видно…
Подошел Дранишников, спросил:
— Часто сюда приходил Тимофей?
— Заходил, заходил, но бывал недолго, час, не больше… Проверял, наверно, не вселили ли кого в его комнату.
— Знакомые, приятели приходили сюда к нему?
— Раньше много. Вся шантрапа с Петроградской перебывала. Из коридора в комнаты пришлось вещи перетаскивать, — пропадали.
— А в последнее время приходили?
— Теперь мало… Народу поубавилось. Из его шайки одних в армию взяли, других посадили, кто эвакуировался, кто просто исчез. Да и сам Тимка не то раненый, не то контуженый, на костылях ковыляет, особенно не распрыгаешься…
— Мало… Но все-таки приходили? Встречались с ними?
Под упорным взглядом обоих старик стащил рукавицы, размотал и снял шапку, бросил на матрац, сел, В платке он стал похож на тетку с базара.
— Генка Шутов бывал, из дома напротив, такой же бандит, всем известный. Иногда вместе заявлялись.
— Еще кто?
— Еще? Ванька Косой. Этот откуда-то с Гулярной, точно не знаю. И фамилии не знаю. Его все — Косой да Косой… Тоже головорез, по которому веревка плачет. Вот эти двое. Больше не припоминаю.
— А высокий черный, немолодой уже, приходил? Нос с горбинкой… — похлопал себя по носу Дранишников.
— Не припоминаю. Может, и приходил, когда меня не было.
Бенедиктов спросил:
— Не страшно, отец, одному в такой квартире встречаться с головорезами?
— Страшно? Думаешь, убьют? Если убьют, то во сне, когда сплю. А так я их не боюсь. В девятнадцатом году мы таких шашками рубили, как капусту… Это теперь — войну я не беру — все с ними в милиции в куклы играете: привод, беседы, предупреждения. Посадят — глядишь, через год снова по улицам бегает. Его хотят воспитать, а он сам не хочет и становится не лучше, а хуже.
— Ну, это ты перегнул…
— Может, и перегнул, но это так. А у меня страха перед ними никакого… Тело, конечно, сдает, глухой, но все равно… Они это знают. Их только побойся…
— А чего, отец, ты не эвакуировался?
В тусклых глазах за очками проскочила злая искра.
— А ты почему?
— Я на работе.
— На работе… А я питерец. Хватит этого? Я из города никуда не уйду. Здесь родился, жил и, — улыбнулся, — победу еще отпраздную. Здесь, в Ленинграде, — постучал желтым кулачком по матрацу, поднимая пыль, — а не где-нибудь там, — качнул неопределенно головой. — Умирать не умру, не думай, меня еще хватит. До победы дотяну и еще рюмку выпью. И винтовку возьму, шашкой-то рубить не смогу, а винтовка при деле будет. Только такое время не придет. Я воевал с немцами, знаю их. Они неплохие вояки, но очень уж злые, жестокие. Жестокость их погубит. И русского им не одолеть!.. Вот увидишь… Широкого мышления нет, фантазии, что ли… Машины есть, оружие, а фантазии нет. А война без фантазии — все равно что баба без… — засмеялся.