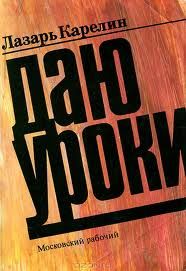Лазарь Карелин - Землетрясение. Головокружение
— Иногда знаю.
— Сейчас знаешь?
Их трудный разговор возобновился, но теперь он шёл на людях и потому снова стал потаённым, как там, в машине.
— Знаю, — сказал Туменбай и потянулся глазами к двери.
— Только‑то? — Ксана, жалеючи Туменбая, покачала головой. — А как это называется?
— Ребята, перестаньте вы шептаться! — досадливо вырвалось у Григория.
— Мы говорим громко, — сказал Туменбай.
— Чуть что не кричим, — сказала Ксана. — Костя, вы нас слышите?
— Да.
— Ну вот, чего же тебе надо, мой придира–брат?
— Люблю ясность.
— Есть тебе хочется — вот и злишься. Папа, давай нарушим традицию, и ты покажешь гостям все свои сокровища после обеда. Твой наследник оголодал, а он в голоде страшен.
— Хорошо, согласен. Но с матерью‑то надо Костю познакомить. — Лукьян Александрович вдруг помрачнел, напрягся, трудно задумался, сжав в руке свою поповскую бороду. Только что был весел и всем доволен человек, картинами своими вот похвалялся, домом, — и вдруг слинял, померк, постарел. И Ксана тоже будто вздрогнула, чего‑то испугавшись. Иной заботой зажило её лицо. Потрудней была эта забота, чем та, какую подметил Костя. Даже Григорий впал в уныние, понурился. Что с ними со всеми?
— Да, да, — сказала Ксана, решаясь. — Надо их познакомить. Туменбай, пойдём же, я познакомлю тебя с мамой.
Так вот от чего он отказывался! Теперь Костя знал, о чём просила Туменбая Ксана. Но разве такое это трудное дело — знакомство с Ксаниной матерью? Общая тревога передалась и Косте.
— Пошли! —решился наконец Лукьян Александрович.
Ещё одна дверь была в этой комнате, задёрнутая портьерой дверь. К ней и подошёл Лукьян Александрович, тихонько отодвинул портьеру, тихонько постучал, прислушался, наклонив голову.
— Можно! — Он, чуть ли не робея, потянул на себя дверь. — Машенька, я не один. Тут вот… — Лукьян Александрович взял Костю за руку, и они вместе переступили порог.
Окно в комнате было плотно зашторено, и в комнате жили сумерки, нежданные в этот солнечный день. Посреди комнаты, как то бывает в спальнях, стояла широкая кровать. И пахло, пахло лекарствами, прогоркло и тяжко. Это был укоренившийся тут запах, он стал тут воздухом. Вон что, Ксанина мама была больна. Давно больна.
Костя всмотрелся в её лицо на подушке, едва различив его. Женщина лежала с закрытыми глазами. Но вот она медленно стала открывать их. И всё замерло в Косте, когда он повстречался взглядом с её глазами. Только они и жили на маленьком, иссохшем лице. И они так засветились в сумеречной этой комнате, что будто свету прибавилось. И они так смотрели, так пристально, неотступно, проникая, что не было сил выдержать этот взгляд. А надо было выдержать. Не для себя, не для того, чтобы утвердиться в её глазах, а для неё, чтобы она не угадала в его испуге, смятении горестную правду о самой себе.
— Лукьян, отдёрни штору, темно. — Говорить ей было трудно, каждое слово выговаривалось медленно, и после каждого слова начинала звенеть тишина.
— Сейчас, сейчас! — Лукьян Александрович суетливо подскочил к окну. — Вот, Машенька, вот, Мария Петровна, и тот самый Костя Лебедев, нашего Василия племянничек, про которого я тебе рассказывал…
Грянул свет. Костя зажмурился, сейчас можно было зажмуриться, а заодно передохнуть и от этих глаз.
— И вот, мама, мой друг Туменбай, — за спиной сказала Ксана. — Я тоже про него тебе рассказывала. — Звонок был голос Ксаны, и жил в нём вызов.
Костя открыл глаза. Туменбай стоял рядом с ним. Он тоже смотрел на Ксанину маму. А она теперь смотрела на них обоих. Они стояли рядом, как два солдата в строю, и, как у солдат, у них выпрямлены были руки, подняты были головы, и они не смели пошевелиться. Ксанина мать смотрела на них. То на одного, то на другого. Беззвучно шевелились у неё губы. Может быть, ей казалось, что она разговаривает с ними.
Ксана наклонилась вперёд, угадывая по движению губ слова матери.
— Костя, нравится тебе в нашем городе? — спросила Она, вслух произнеся вопрос матери.
— Да. Но я уезжаю. Сегодня, наверное, не успею. Завтра…
— Почему? — спросила Ксана. Костя и сам угадал это «почему?» на губах её матери. Но ему показалось, что она ещё прибавила: «Не спеши». Показалось. Ксана этих слов не повторила.
«Мне трудно здесь, — хотел сказать Костя. — Мне очень трудно здесь». Он этих слов, конечно, не сказал, только беззвучно шевельнулись губы у него. Вслух он произнёс лишь одно слово:
— Пора.
Ксанина мать внимательно следила, как шевелились его губы, родившие только одно слово.
— Не спеши, — проговорила она явственно, — Не спеши… — Она не понадеялась, что дочь правильно повторит её слова. — Молодость… торопится…
Теперь она смотрела на Туменбая. Снова шевельнулись её губы, беззвучно заговорив.
Ксана наклонилась, совсем близко, боясь упустить хоть единое слово. Угадывая, она и сама зашевелила губами. Мать говорила, Ксана угадывала, разгадывала её шёпот, но молчала. И это безмолвие затянулось. Тогда вдруг Туменбай шагнул вперёд, шагнул из строя и, прижав руки к груди, как это делают на Востоке, низко, медленно поклонился Ксаниной матери. А потом, едва распрямившись, рванулся к двери.
— Туменбай! — метнулась за ним Ксана.
— Стой! — Григорий схватил сестру за руку. — Ты ещё побежишь за ним!
Захлопали двери в доме, стихли убегающие шаги Туменбая.
— Мама, прости! — сказала Ксана шёпотом. — Прости…
Лукьян Александрович как стал у окна, отодвинув штору, так там и остался. Он стоял, пожёвывая кончик бороды, удручённый, но и отрешённый. Не вмешивался. Даже когда рванулся из комнаты Туменбай, и тут не шевельнулся Лукьян Александрович, не молвил ни словечка. Здесь мать решала, здесь её жила воля. Да, жила, ещё жила, и все они, и дети и он сам, были подвластны этой воле, подчинялись этой женщине, маленькой, иссохшей, почти ушедшей. Но воля её не иссякла, и мать все ещё была центром семьи.
Она снова смотрела сейчас на Костю. Все смотрели сейчас на Костю. Даже Ксана. А он, а ему было так не по себе, что впору бы повернуться и убежать, как это сделал Туменбай. Нет, Туменбай не убежал. У него гордо всё получилось. Он что‑то прочёл по этим губам, что-то такое, чего его гордая душа не стерпела. И Ксана тоже прочла. И потому и молчала, что спорила с матерью, не соглашалась. Так зачем же тогда? Разве не Ксане решать, кто ей нужен? Разве не ей надо будет жизнь прожить с человеком, которого она, она и должна выбрать? Она и никто другой. А сейчас, а здесь ей пальцем указывали на него. Бери, мол, этого Костю Лебедева, бери, так будет лучше для тебя, для всех нас, мы‑то знаем, что лучше. Вся семья была за Костю, но Ксана была против. В том‑то и дело, она была против.
— Подожди… — медленно проговорила Мария Петровна. — Не спеши…
Она закрыла глаза, отпуская Костю, отпуская всех. Очень она устала.
— Пойдёмте, пойдёмте, — Лукьян Александрович снова задёрнул штору и на цыпочках пошёл к двери.
В комнате жены он был совсем не похож на себя, он будто меньше сделался, и иной в нём проглянул характер. Не таким напористым и самонадеянным он выглядел. И, показалось Косте, в чём‑то чувствовал он себя виноватым перед этой маленькой, избывающей женщиной.
Следом за Лукьяном Александровичем направились к двери Костя и Григорий. И тоже пошли на цыпочках. Ксана шла последней, оглядываясь, надеясь, что мать скажет ей что‑нибудь. Мать молчала.
13Когда все вышли, Лукьян Александрович осторожно притворил дверь, осторожно задёрнул портьеру, потом обеими руками провёл по лицу, по бороде и распрямился. И стал опять самим собой. Улыбнулся даже самонадеянно.
— Обедать, а теперь обедать!
Но какой там обед, не получалось с обедом.
— Я потом! — сказала Ксана и выбежала из комнаты. Захлопали в доме двери, послышались её убегающие шаги.
— И мне пора, — сказал Костя. — Спасибо. Да я и есть не хочу.
— Что ж, неволить не стану. — Уразов помрачнел. — Но хоть по рюмочке‑то. Нехорошо, в доме побывал, а до хлеба не дотронулся. Пошли, не задержу.
По длинному коридору, в котором и стояли, где только возможно, громадные зелёные и жёлтые вазы, будто то опять был не дом, а музей, прошли в сад. Сперва он показался Косте таким же, как и у Анны Николаевны. Тоже рдели в глубине ветвей громадные яблоки, тоже все оплёл тут виноград. И фонтан подкидывал ломкую струю неподалёку от стола. Но, приглядевшись, заметил Костя, что это был все же какой‑то странный сад. У ограды и вдоль стены дома здесь выстроились плиты из мрамора, и какие‑то мрачные, согбенные фигуры из гипса, и кресты, кресты, вырубленные из камня, большие, даже громадные кресты стояли по углам.
— Мастерская тут у меня, — пояснил Уразов. — Да ты не смотри, Костя, тут ничего такого не высмотришь. Работаю, деньги зарабатываю. — Он попробовал пошутить: — Для души работать — душа вон вылетит. Ну, Григорий, наливай. Водки. Мне в стакан. Доверху. Устал что‑то я.