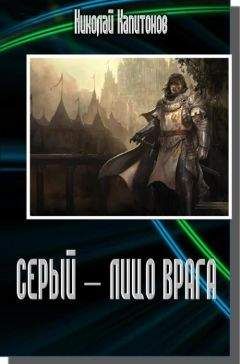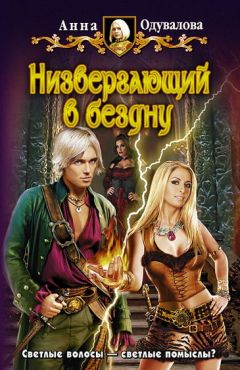Николай Верещагин - Corvus corone
В одном из последних номеров «Правды» он наткнулся на большую статью о положении дел в социологии и с огромным вниманием прочитал ее. В статье было прямо сказано, что «на протяжении многих лет обществоведение наше находилось не в авангарде, а скорее в арьергарде общества», что, по сути, оно «тащилось за практикой, ограничиваясь в значительной мере повторением, разъяснением и одобрением уже принятых партийных решений». Ныне, писал дальше автор статьи, это уже становится невозможным. Наука должна изучать и освещать не только пройденные, но и предстоящие участки пути, заблаговременно предупреждать общество об ожидающих его трудностях, разрабатывать альтернативные варианты решений и обосновывать выбор лучших. Сориентированная таким образом научная деятельность не только может стать, но и реально становится одной из активных движущих сил, важнейшим инструментом перестройки. С необычной резкостью и прямотой говорилось об администрировании в руководстве наукой, о засилье догматизма и бюрократии, приводившем к подавлению новых и свежих идей. «Вражда и склоки между группами социологов, мелкая борьба самолюбий, неумение понять и признать друг друга привели к развалу целого ряда перспективных социологических коллективов. К этому добавилась специфическая кадровая политика, в результате которой наиболее талантливые социологи были вынуждены уйти в сторону и теперь работают практически в одиночку «на периферии» социологии».
Все это было хорошо знакомо ему, со всем этим он свыкся давно. Свыкся до такой степени, что, казалось, иначе не может и быть. И вот теперь черным по белому об этом писали в центральной газете, делая достоянием гласности то, что прежде обсуждалось лишь шепотом в узком кругу. Статья эта произвела сильное впечатление на него. Если к другим публикациям такого рода он относился еще с сомнением, как к очередной газетной кампании, то здесь, когда дело коснулось хорошо знакомой ему сферы, и вправду почувствовал перелом. «Это хорошо, — думал он. — Наконец–то появилась гласность. Пора открыть все окна, все двери, чтобы свежий ветер перемен выдул весь этот мусор, весь затхлый дух, который заполнил наши институты и ведомства. Дошло ведь до предела — дальше ехать некуда! Переливаем из пустого в порожнее, а жизнь–то уходит вперед. Так можно все проиграть, в самом хвосте оказаться… Давно пора навести порядок, дать дорогу всему талантливому, новому! Ведь сколько умных и работящих людей у нас есть. А ходу им не дают. А ведь могли бы дела делать, науку двигать вперед…»
Но кратковременный этот подъем миновал, и тяжкая хворь опять одолела его. Настроение резко упало, и он затосковал. «Ты–то чего хлопочешь? — едко спрашивал он себя. — Тебя все это уже не касается. Ты экс–социолог в перьях, уже «перестроился». Ты свое получил! Тебя самого давно уже вымели, вымели из человеческой жизни вообще… Так что молчи и не каркай, дружище. Вот так!..»
В тяжкой болезненной истоме кружилась голова, болели глаза от дневного света, и только в чердачном одиночестве и полумраке боли чуть меньше мучили его. Была постоянная ломота в костях, и летать он почти не мог. Сил на это недоставало. Какая там человечья жизнь — он и к вороньей–то был уже неспособен! Давно перестал чистить перья и, оглядывая себя, видел, что у него неопрятный встопорщенный вид; но наплевать — все равно теперь, все одно! Все тело болело и ныло, состояние было ужасное, и оттого все виделось в мрачном свете. «Перестройка!.. Шуму–то сколько! — мрачно думал он, нахохлившись под стропилами в самом темном углу чердака. — А разве не было раньше–то этих перемен, перестроек? Уж только на его памяти было две: одна в пятьдесят шестом, другая в шестьдесят пятом. Ну и чем это кончилось?.. А ничем! Ну, вместо старых чинуш пришли новые, вместо прежнего «волюнтаризма» родился новый директивный стиль… Суета сует!.. Все приходит, и все уходит, и возвращается на круги своя…»
Особенно возрос в нем этот пессимизм, когда в одной из газет он встретил статью Пукелова, с пафосом ратующего за перестройку, смело вскрывающего застойные явления. Тон у автора был столь решительный, что, не будь Вранцов знаком с этим деятелем лично, наверняка решил бы, что писал смелый, прогрессивно мыслящий человек, один из тех, кому так трудно приходилось в застойные времена. «Ну вот, — желчно думал он. — Вот и все дела! Несогласных нет. Вот мы уже и перестроились!..» Вместе с горечью даже злорадство какое–то испытывал — пусть ему плохо, но и никому не будет хорошо.
То жар донимал, и тогда он сидел, вяло раскрыв клюв, почти теряя сознание от дурноты. То, наоборот, начинал бить страшный озноб, и, съежившись, он жался к какой–нибудь теплой трубе, пытаясь хоть немного согреться. И мысли шли тяжкие, безотрадные.
Даже если бы он оставался человеком, что сулила перестройка ему?.. Можно представить, какая у них в «конторе» нервозность и паника, как оживились склоки и трения, сколько мути со дна поднялось!.. Кому–то, конечно, придется уйти, и нет никаких гарантий, что не ему, Вранцову. Вот и вышла бы ему боком эта перестройка — оказался бы никому не нужным на улице. А уж места зава ему бы точно, как своих ушей, не видать.
«Допустим, в самом деле на этот раз перестройка, — с конченой мрачной откровенностью рассуждал он с собой. — Пусть новая жизнь начнется, пусть правда верх возьмет и справедливость победит. Пусть достойным воздадут по заслугам, а серость и бездарность будут посрамлены!.. Тебе–то какой в этом прок? Сам–то где в этом случае окажешься?.. Сказал бы где, да нецензурно пишется… Что ты можешь на сегодняшний день предъявить: какие труды, какие идеи? Ведь ты давно кончился как ученый, Вранцов! — сказал он себе. — Ты эти пятнадцать лет наукой занимался? Ты дело делал?.. Ты около дела только вертелся, и твоя песенка давно спета, Вранцов!..»
Болезнь, которая донимала и мучила его, была не простуда какая–нибудь, не краткая хворь. Наступало моментами облегчение, но потом снова ломота, лихорадка, жар — и сама по себе, как поначалу надеялся, не проходила она. Возможно, это была пневмония, может, и похуже чего, но как узнаешь, если на прием не только у врача, но даже у какого–нибудь ветеринара он рассчитывать не мог.
Птицей он ни разу до этого не болел — ни в зимнюю стужу на холодном чердаке, ни в осеннюю слякоть и распутицу. Последний раз болел еще человеком, как раз накануне превращения, когда вот так же сильно кружилась голова и бросало то в жар, то в холод. Тогда это кончилось плохо для него. Ну, значит, теперь, когда хуже некуда, вообще конец близок. Мысль эта не испугала. Наоборот, утешила даже его. Если зимой он еще на что–то надеялся и ранней весной тоже, то теперь последняя надежда покинула его. Чем дальше он будет эту волынку тянуть, тем больше тоски и страданий — вот и все. Уже не только человеческая, но даже нормальная воронья жизнь, больному и слабому, была недоступна ему. Так чего же он ждет? На что надеется? Прежде тосковал, но хотя бы физически чувствовал себя хорошо. А теперь все болело, от слабости едва крыло мог поднять — и до такой степени мерзко все было, что сдохнуть куда легче, чем жить. Все чаще и упорнее стал он думать о самоубийстве. Поначалу мысль эта казалась нелепой и даже пошлой какой–то. И не потому, что так уж хотелось жить, а просто из–за технической невыполнимости своей: не мог же он застрелиться или повеситься, как человек… Но если, скажем, броситься под поезд — для вороны и для человека исход одинаковый… И тогда он все чаще стал возвращаться к этой мысли, находя в ней порой утешение. Если люди прибегали к такому средству, чтобы избавиться от бедствий и зол, куда меньших, то ему–то чего терять? Уж если человеческой жизнью своей кто–то жертвовал, доведенный до крайности, то вороньей вообще грош цена.
Ведь что такое жизнь, если вдуматься? Это нечто, чем я владею, что в своем распоряжении имею: мое тело, моя собственность, моя идентичность, мое «я». За исключением собственности, все это есть даже у нищего, что и его заставляет цепляться за жизнь. Страх смерти — это ведь не страх каких–то предсмертных мучений (которых может и не быть), страх потерять все то, что в жизни имеешь, или что мог бы в будущем, возможно, иметь; и потерять все это безвозвратно, потерять навсегда. Но ему–то, Вранцову, чего терять? Его нынешнее тело смехотворно ничтожно, его человеческое «я» утрачено, а вся собственность — кусок колбасы под застрехой, добытый вчера вечером на обед. Говорить при этом о какой–то самоидентификации значит просто издеваться над собой.
И действительно, смерть уже не пугала его. Да и чувствовал: дело к тому. Но мысль, что память о нем останется скверной, все–таки была тяжка. Куда он делся? Куда так внезапно исчез? Не смылся ли, в самом деле, от семьи? И сын будет стыдиться памяти о нем, и Вика избегать упоминаний. Нет, не мог он уйти, не подав последнюю весть о себе.