Василь Земляк - Зеленые млыны
п просто перехитрил нас. Это был первый староста, с которым мне довелось иметь дело. Так или иначе, а Явтушку пока не следует попадаться на глаза, хоть он и ходил в друзьях моего отца, а я был другом его сына и хоть пел он невеселую песенку.
Когда я до войны приезжал в отпуск, Явтушок не мог налюбоваться формой Аэрофлота, которую мы, курсанты, с помощью всяких хитростей, а главное, с помощью клеша трансформировали почти в морскую. «Вот это штаны! — изумлялся он, а фуражку с крабом все примерял на сыновей. — Учитесь, озорники, если хотите летать», — говорил он ошеломленным потомкам (Ясько тогда уже служил в городе Мары). Когда мой самолетик падал, мне почему то вспомнился именно этот эпизод в хате Явтушка, куда я пришел, понятно, не столько повидать хозяина, сколько показать себя, будущего гражданского летчика, тогда чуть ли не единственного на весь Вавилон. Смешно подумать, но те самые мои клеши, которыми так восхищался тогда Явтушок, теперь могут стоить мне жизни. Ведь запомнил их тогда не один Явтушок, и нет никакого способа заставить Вавилон забыть их, а оккупантам стоит только намекнуть, что есть здесь сейчас такой вавилонянин, пусть и невысоко он залетел с Глушеней…
С пепелища Валахов, где печь вся в саже напомнила коммуновский локомобиль и унесла меня в детство (только подумать — сколько зим проведено на этой печи!), иду к Рузе через ту самую запруду, на которой Бонифаций (припоминаете?) все норовил усесться вер хом на Савку, когда тот возвращался ночью от Рубана после ужина. Сейчас меня на этой запруде охватил страх: а что, если душа Кармелита и доныне блуждает по Вавилону? На пруду ночует стайка белых уток; отец накануне войны писал мне в Миргород, что решил завести белых уток, взял из инкубатора тридцать утят — может, это как раз наши? Я позвал их, стайка проснулась, зашевелилась, закричал селезень и потянул белое ожерелье в камыши, подальше от греха.
Вот и Рузнн дом, такой знакомый с детства. Я заглянул во все окна и нашел все-таки одно обжитое, в нем трепещут белые вышитые занавески, и от них веет белой печалью, а за ними — горят глаза, вовсе не безумные, не перепуганные, они прожигают мне душу насквозь, настораживают своей настороженностью. Потом рука открывает форточку и те же глаза смотрят на меня с удивлением и доверием и указывают на дверь сеней.
Иду к двери, стою, жду, но вижу — на двери большой замок. Как же так? Кто запирает тетку Рузю? Зачем?.. Должно быть, дошло уже до точки, если стали запирать… От кого-то я слышал, что немцы расстреливают сумасшедших. Вот Вавилон и запирает ее, спасает…
Мне стало и неловко, и больно оттого, что ничем не могу помочь ее горю, развеять печаль этих белых окон. Кто же отпирает ее, бедняжку? А мне уж не лучше ли уйти прочь?..
— Подними руку. Там па окошке над дверью ключ. Отпирай и заходи…
Делаю, как велено, сам ведь напросился, отступать поздно. Здороваюсь с ней, а она, махнув белым подолом, скрывается в глубине хаты, ищет там спички.
— Нет, эта Рузя и в самом деле сумасшедшая. Уходит из дому и забирает с собой спички. Погоди, я сейчас достану уголек из печи, как-нибудь посветим.
«Да она совсем плоха, па себя наговаривает. Это уж конец…»
— Мало того, что она запирает меня, так еще и спички прячет, чтоб я не зажигала света. Проходи, проходи, не бойся, я достану уголек…
Она побежала за перегородку, загремела заслонкой, стала разгребать ухватом золу — мне все это слышно, потом выносит на заслонке уголек, кладет клочок ваты, говорит: «Дуй». Я дую, пока не вспыхивает пламя, и от него зажигаю коптилочку па конопляном масле. Запахло полем…
— Ну, ну, так кто же это?.. Что-то не узнаю. На кого-то похож, а не узнаю. О, да это ж ты, старший Валах?..
— Я… Мальва… Мальва Орфеевна.
— Сколько же это мы не видались? Еще с тех пор, как в Зеленых Млынах…
— На школьной молотьбе, помните? Вы тогда у барабанов стояли. А я отгребал полову. Лель Лелысович, Домирель, Кирило Лукич в пенсне… Потерял еще их в полове…
— Пасовские…
— И Пасовские. Мария Вильгельмовна и Александр Стратонович. Математик.
— Умер, бедняга, от астмы. Перед войной. На последнем экзамене умер. Задохнулся.
— Ну, а Лель Лелькович? Домирель?
— Ушли на войну… В первый день. Остался там один Кирило Лукич. Стар уже. Еще при земстве был учителем… Повоевала я с ним. Не хотел оставлять свой хутор. Не хотел перебираться в новое село. А хутор — одного сада полторы десятины. Сад остался, перешел в колхоз, а хату мы перенесли в новое село. Конечно, не хотелось старику покидать обжитое место: вокруг рожь шумит, пшеница, рай для птиц, для скота, одних голубей было сотни три — такая вот жизнь; но и мне отступать было невозможно. Теперь мне из за этих хуторов в Зеленые Млыны хоть не показывайся…
— Да вам, вижу, и тут не сладко.
— Тут хоть свои люди… Не держат зла на меня. Только вот запирают… — Мальва улыбнулась. — Утром Рузя запирает, а ночью отпирает. Она сейчас должна вернуться со свеклы. Вот удивится, как увидит, что отперто. Что ж ты стоишь? Садись. Рассказывай. Откуда и как?..
— Долго рассказывать, Мальва… Орфеевна…
— Ну, ну, Орфеевна! Это еще на что? Зови просто Мальвой. Родичи ведь… Да и ты уж вон какой. Говорят, летал?..
— Не высоко… На кукурузнике… Побитый был. Самолетик побитый…
— Тут где нибудь? В наших местах упал?
— За Киевом. На Полтавщине.
— Это ты из того окружения?..
— Из того, Мальва… Орфеевна. Мы там держались до последнего патрона. Вместе с генералом в последнюю атаку пошли. Летчики, не летчики — все подряд. А вел нас в атаку секретарь ЦК Бурмистенко. Я был в его группе. Было пять групп, и ни одной не удалось вырваться. Бурмистенко погиб. У меня на глазах. Нам да же не удалось похоронить его. Не успели…
— А что Кирпонос?.. Изменил?……
— Кто вам сказал?
— Народ говорит. Будто бы сообщали в немецких газетах. Сдал армию и сам сдался…
— Я видел Кирпоноса. Привез ему пакет. Не знаю, что было в том пакете, но упали мы недалеко, и пакет я сам ему вручал. Это было на рассвете, еще сутки он был с нами, ходил с палочкой — в ногу его ранило. А на другой день, как раз только стало вечереть, погиб у «генеральского родничка». Там есть родничок, в Шумейковой роще, генералы из него пили, вот бойцы и прозвали его «генеральским родничком». Разорвалась мина как раз, когда он там пил воду. Шальная мина. Там его и похоронили. Я из того родничка сам пил, когда пришел к ним. Не упади мой кукурузник, может, я и вывез бы Кирпоиоса…
У крыльца затопали.
— Это Рузя, — успокоила меня Мальва. Побежала, встретила ее.
Рузя черным черна. В телогрейке, подпоясанной ремнем, в сапогах, в теплом платке, а в глазах и страх, и смех. Немцы пустили завод, гонят всех на плантацию, заставляют днем копать свеклу, а ночью, при фонарях, чистить. По два три раза в день приезжают коменданты, а каждую неделю наведывается и сам гебитскомиссар Месмер, обещает созвать в Глинске съезд свекловодов, на который должен прибыть еще более высокий начальник и вручить лучшим из лучших часы. Еще бы! Да за такую свеклу, говорит Рузя, можно пол ихней Германии отдать. Мы лее ее для себя растили, каждая с конскую голову, у тех, кто копает, руки сводит, а он, проклятый, ходит в белых перчатках да причмокивает.
— Вот какую вы землю немчуре отдали! — Рузя злится, стаскивая с ног сапоги. Правую ногу она сама вынуть не может, и Мальва ей помогает. Не рассчитала усилие, падает с сапогом на кровать, смеется, а Рузя на скамеечке плачет.
— Ну, ну, будет тебе, пятисотница! Иди, мой ноги, ужинай, да и родич вон, видишь, с дороги. Тоже не ужинал еще.
— А что там у нас на ужин? — спрашивает Рузя.
— Пироги со свеклой… И жаркое. Несоленое. Соли нет.
Обе идут за перегородку, Рузя там умывается, а Мальва накрывает на стол: вносит пироги, знаменитое
вавилонское жаркое, непочатую бутылку бураковки — свекольного самогона.
— С нашей винокурни, — Мальва усмехнулась, ставя бутылку на стол. — Рузя простужается, кашляет, вот я ее и подлечиваю. Она в поле, а я тут… под замком.
Входит Рузя, выпивает свою рюмочку, принимается за пироги. Она сразу разрумянилась, ожила, в глазах заиграли огоньки.
— Где же ты собираешься жить?
— Еще пе знаю.
— Тут ваши утки на пруду. Белые. Северин в Глинске достал. Поручил их мне, а я все не могу их дозваться. Не то одичали, не то не знают нашего языка. Китайские какие то…
— Ага, отец писал мне…
— Про уток?..
— Да он мне обо всем писал… Такой был писучий, что я не успевал прочитывать его письма. И про вас писал…
— А про меня что же?
— Что вы получили орден за свеклу. Что чуть не вышли замуж за какого то приезжего.
— Ох, уж это замужество! Он переселенец, из Теребовли. Печь у меня клал. Потом вот эту перегородку поставил. Красивый был, ласковый, тихий и великий мастер по печам. Влюбился то ли в меня, то ли в мою славу. Ну и жил здесь до поры до времени. Одну зиму, а потом ушел. А тут слышу — у них уже, у немцев. Чуть ли не начальник полиции в Глинске… Приголубила его, а он, может, шпионом был ихним, тогда еще, до войны. Мальва знает его, он и в Зеленых Млынах клал печи…

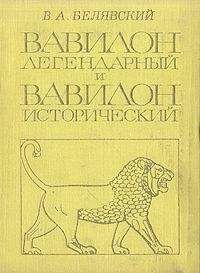


![Сэмюэль Дилэни - Вавилон - 17 [Вавилон - 17. Нова. Падение башен]](/uploads/posts/books/54853/54853.jpg)