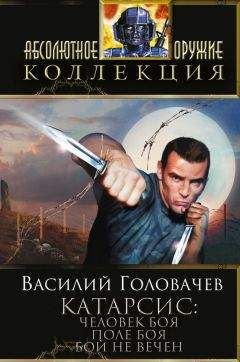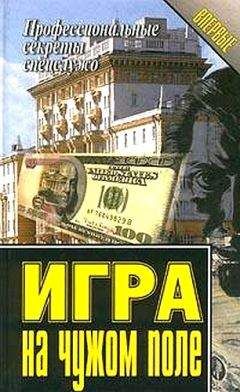Василий Росляков - Мы вышли рано, до зари
— На прошлой неделе, — рассказывает Федор Иванович, — приходит ко мне группа активистов. Ходатайствуют они за своего товарища, студентку, которая представлена к отчислению. Завалила две сессии, но товарищи просят оставить ее, поверить ей. Человек она дисциплинированный, честный, активно участвует в общественной работе. Хорошо. Вызываю эту студентку. Беседую. И что же вы думаете? «Кто, спрашиваю, ваши родители, где работает отец?» — «В ЦК», — отвечает студентка. «В каком, спрашиваю, ЦК?» — «Что значит — в каком? — удивляется студентка. — ЦК, говорит, есть ЦК». Тогда я задаю наводящий вопрос. «Где, спрашиваю, живет отец?» — «Отец, говорит, живет в Башкирии, а я с братом — в Москве». И тут, вы примите меня правильно, — говорит Федор Иванович, — тут я задаю вопрос на всякий, думаю, случай: «А где, говорю, находится Башкирия?» — «Как где? — обижается студентка. — Там, где и всегда, в Казахстане». Вы представляете себе? — сурово спрашивает Федор Иванович, когда собрание отсмеялось и успокоилось. — Вы себе представляете, о ком ходатайствуют комсомольские активисты? Поймите меня правильно, я ничего плохого сказать не хочу об этих товарищах, товарищи хорошие. Но кого они защищают?
Конечно, после таких примеров комсомольцам становится стыдно, их мучает совесть. И если были какие-то претензии к руководству и лично к декану, а может быть, и желание подвергнуть руководство критике — все эти претензии и желания выступить с критикой улетучиваются. Стыдно.
После таких выступлений обычно ничего не меняется, все остается как было, и невысказанные претензии, неутоленная жажда критики снова начинают накапливаться в сознании многих людей до нового выступления Федора Ивановича. А после нового выступления какой-нибудь циник Сережка Чумаков скажет: «Опять Федька речугу толкнул». Да постарается сказать так, чтобы его мог случайно услышать кто-нибудь из преподавателей. И все бы ничего, если бы не было типов похлеще Чумакова. Такой тип не стесняясь скажет: «Пирогов, — скажет он, — демагог». Как печать поставит: демагог. Это уже не Сережкины шуточки. Тут дело посерьезней. Это уже приклеивание ярлыков.
5Так бы и шла жизнь от одного выступления Федора Ивановича до другого его выступления. Но случилось серьезное событие.
В последние дни февраля, когда город был полон снега и солнца, состоялся XX съезд партии.
А через несколько дней, уже в марте, наэлектризованные разными слухами, в главной аудитории факультета коммунисты собрались на закрытое партийное собрание. Ни на одном собрании не были так похожи выражения лиц у членов президиума, сидевших на кафедральных подмостках за красным столом, и у коммунистов, сидевших в аудитории.
В минуту выжидательной тишины секретарь партийного бюро передал лучшему лектору, Грек-Яксаеву, тоненькую книжку в красной обложке.
Федор Иванович Пирогов проутюжил левой рукой рыхлое и серое свое лицо, откашлялся в кулак Олег Валерьянович Грек-Яксаев и начал читать. Он начал без обычной разминки, когда голос постепенно набирает силу и уже потом начинает звучать во всю свою мощь. Он начал сразу и потому в первую же минуту поразил всех неожиданностью.
Кто бы мог передать то, что происходило сейчас в душе каждого, кто сидел в этой аудитории? Как передать эту бурю в сплошной тишине?
Федор Иванович сидел неподвижно, рукой захватив мясистую челюсть и упершись локтем в красный стол. Глаза его были спрятаны за толстыми стеклами очков.
Привычно, как у старого орла, держалась белая голова Иннокентия Семеновича Кологрива над его черным морским кителем. Иван Иванович Таковой, повернувшись одним ухом к президиуму, как бы не слушал, а подслушивал читавшего.
У каждого была своя, по-особому сложившаяся жизнь. Но каждый, слушая Грек-Яксаева, не раз вспоминал одного и того же человека. Одни видели его близко — такие, как Пирогов и Иннокентий Семенович; другие видели издали, на гранитном Мавзолее, в дни всенародных торжеств. Вспоминали, перебирали в памяти свои жизни.
Алексей Петрович видел то одно, то другое, то третье. И столпотворение, начавшееся с той ночи, когда улицы стекались к Колонному залу, где лежал он; и заветную площадь с плывущим в века Мавзолеем, а на граните Мавзолея среди иных — он, единственный, с коротко поднятой рукой. То вставала в памяти газетная полоса и письмо американского рабочего: «Товарищи, умер Сталин. Берегите наше первое рабочее государство». Алексей Петрович ничего не видел из того, о чем читал сейчас Олег Валерьянович.
Грек-Яксаев был натурой артистической. Артист, который жил в этом ученом, без труда подчинял себе студентов. И Олег Валерьянович давно уже не помнит своих лекций, которые не заканчивались бы овацией слушателей.
Читая доклад секретаря ЦК, он дал волю страстям, которые вызвал в нем этот доклад. Он дал волю артисту, который жил в нем всегда и порой доводил самого Олега Валерьяновича до экстаза.
Один человек только, Иван Иванович Таковой, посмел нарушить оцепенение и прервать чтеца. Розовое лицо Такового покраснело, он устало поднялся и сказал, обращаясь к президиуму и собранию:
— Товарищи, нельзя устраивать из этого балаган. Я предлагаю передать чтение другому.
Только теперь стало слышно дыхание людей.
— В чем дело? — спросил опешивший секретарь.
Но ответил не Иван Иванович, а Олег Валерьянович.
— А в том, — ответил Олег Валерьянович, — что товарищу Таковому не нравится мое чтение. Ему жалко товарища Сталина. А мне, дорогой Иван Иванович, не жалко, да, не жалко. — Он осторожно положил на стол, перед секретарем партбюро, красную книжицу и молча сошел с подмостков и по ступенькам прохода поднялся в глубину аудитории.
Доклад был дочитан секретарем партийного бюро. Он же прочитал и постановление, принятое съездом по докладу.
Во время перерыва не было обычного шума. Люди как-то сновали друг мимо друга, останавливались, заглядывали друг другу в глаза: «Вот какое дело» — и снова расходились. Иные разговаривали, обменивались мыслями. Только Иннокентий Семенович был оживлен, взбудоражен.
Таковой выглядел немного растерянным, глаза его останавливались на каком-нибудь предмете, потом прятались за припухшими веками. Обычно он был уравновешенным, чуть притомленным от излишней полноты и от чувства собственного достоинства. Он всегда знал свое место, никогда не суетился. А тут на какое-то время утратил свою степенность, стал немного растерян и суетлив. В его докторской диссертации было много ссылок на Сталина. Прежде всего он подумал об этом, когда слушал Олега Валерьяновича. Олег Валерьянович своим чтением терзал его без всякой жалости, бил по самому больному месту.
Алексей Петрович ни с того ни с сего вспомнил студентку-казашку, с которой учился на одном курсе. Звали ее Мэлсу. Подружку звали Райсэ, а ее — Мэлсу. «Что такое Райсэ? Это переводится?» — спросил он как-то Райсэ. «Просто — Рая», — ответила Райсэ. «А Мэлсу?» — «Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, Уразалы, — ответила Мэлсу. — Уразалы — мой отец, пятый классик марксизма-ленинизма», — и Мэлсу захохотала над чудачеством своего отца.
В голову приходила всякая чепуха, а ведь было над чем подумать серьезно. Но Алексей Петрович был уверен, что подумать над всем этим еще будет время, потому что собрание — это только начало; думать он будет еще долго, очень долго.
Выступлений было много. Достойно и хорошо выступили Федор Иванович Пирогов, Иннокентий Семенович Кологрив, секретарь партбюро, несколько студентов. Алексей Петрович не выступал, он решил, что, поскольку все правильно, выступать ему не обязательно. Таковой говорил не так уверенно, как всегда, но не выступить он не мог. Он только позволил себе сделать замечание по поводу чтения Олега Валерьяновича. «Так читать исторические документы непозволительно, — сказал он. — Это не спектакль».
Олег Валерьянович говорил с присущей ему горячностью, с едва уловимыми загибами.
— Правильно говорили здесь, — начал Грек-Яксаев. — Двадцатый съезд партии восстановил ленинские нормы партийной жизни. Это все правильно. Но я скажу больше. Двадцатый съезд, да, восстановил не только нормы партийной жизни, он восстановил нормы всей нашей общественной жизни. И больше того, он восстановил в нас человеческое достоинство. — И, набрав высоты, закончил: — Если хотите, Двадцатый съезд восстановил в нас Человека, да, Человека! Может быть, это кому-то и не нравится, вам это не нравится, дорогой Иван Иванович, — он протянул руку в сторону Такового, — но это ваше личное дело.
6В три часа ночи Лобачева разбудил телефон. Алексей Петрович вскинулся на своей оттоманке, прислушался тревожно. Звонок повторился — требовательно, с возмутительной настойчивостью. Телефон был почти невидим, почти неразличим в темном углу на письменном столе, но продолжал повторять свои звонки требовательно и с возмутительной настойчивостью.