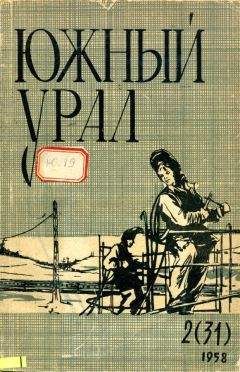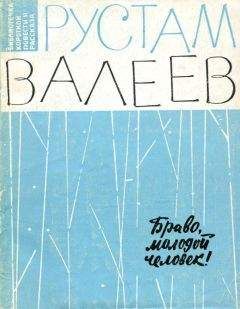Рустам Валеев - Земля городов
Нежданно-негаданно приехала его жена, да не одна, а с детьми. Наверно, ей стоило немалых трудов среди эстакад, среди земляных холмов, коловращения механизмов, неисчислимых бытовок, вагончиков отыскать именно тот, нужный ей, вагончик.
И вот декабрьским студеным полднем она стала против вагончика, держа за руки своих иззябших деток — мальчика лет девяти, в серой кроличьей шапке, самокатаных валенках, в просторном, на вырост, пальто, схваченном в поясе широким солдатским ремнем, и четырехлетнюю девочку, закутанную в огромную байковую шаль и похожую на толстенький сноп проса гузовкой вверх.
Мельников рассказывал, что в оттаявшем кружочке оконца он углядел эту троицу и сердце у него екнуло от недоброго предчувствия.
— Слушай, — сказал он Апушу, — не твоя ли семейка приехала?
Тот надолго приник к оконцу и молчал.
— Твоя, — обреченно сказал Мельников. — Где я возьму вам жилье? И чего ты не бежишь встречать, а?
Тот, опять же ни слова не говоря, накинул на плечи ватник и пошел из вагончика.
— Ой, горе мое, так оно и есть! — запричитала его жена. — Полный рот зубов у этого бессовестного, бесстыжего изверга… я-то надеялась, что он бахвалится, как всегда бахвалился этот пустозвон, этот бесстыжий, бессовестный пустозвон!..
— Ты! — сказал он, не только не закрывая вместилища злополучных золотых зубов, а еще шире открывая. — Ты, да они ночью светятся. По крайней мере, будешь видеть, кого обнимаешь.
Так он говорил, с каждым шагом приближаясь к ним, возбуждаясь стыдливым шевелением своих отпрысков. Наконец он вихрем, будто решив: а, была не была! — налетел на ребятишек и схватил их в охапку.
— Не смей, не смей, — покрикивала жена, улыбаясь, сквозь слезы, но не оставляя злорадного словотворчества: — Не смей… помой прежде руки, которые ты пачкаешь о грязных баб!..
Но он уже вскинул на руках запеленатую в шаль дочку.
— Да не пугай ты ребенка. Закрой рот, пусть девочка попривыкнет к твоим бессовестным зубам.
Вечером, оставив семейку в жарко натопленном вагончике, он приехал к нам и весело сказал, что явился за периной, ибо малышам не на чем спать, Моя мама (как, видимо, он и рассчитывал) решительно отказалась выдать перину.
— Привези сперва жену и детишек, а там, если хочешь, забирай свою перину.
— Ладно, тетя Айя, — ответил он будто бы уступая, — перину я так и быть оставлю. Но семья моя пусть поживет в вагончике… Не беспокойтесь, три или четыре дня, или сколько там понадобится, пока я не получу двухкомнатную квартиру.
— Но зачем же ты их вызвал сейчас?
Он ухмыльнулся:
— Я не вызывал. Я просто написал, что вставил золотые зубы. Этого было достаточно.
Мама не отважилась нарушить его планы в ту же минуту, но через три дня подъехала к вагончику на такси и увезла Майсару и детишек домой. Апуш подоспел к тому моменту, когда его отпрыски уже сидели в машине. Сперва он делал то обиженное, то свирепое лицо, но в конце концов засмеялся и махнул рукой. Мама и Майсара глянули на него победно.
— Зачем же увозите, — смеялся он, — ведь завтра я получаю ордер, слышите, тетя Айя? К Салтыкову иду работать, бригадиром!..
Вечером мама рассказывала:
— Ему какой-то Салтыков обещал квартиру. Не Алеша ли?
Что-то во мне дрогнуло, затосковало при одном только упоминании об Алеше. Последнее время я уставал, хандрил, работа не ладилась, и все это муторное состояние привычно укладывалось в треклятую прокрустову лежанку: «Все осточертело, надо бежать на природу!»
Но и на природу не хотелось: спокойные Харуновы беседы расслабляли, навевали приятное коварное чувство лени и только подчеркивали пустоту в голове. А хотелось разговоров до изнеможения, потоков речей, споров, воспоминаний, чтобы пробудить мысль, заставить кровь пульсировать быстрей…
Одевшись, я вышел на улицу. И горько рассмеялся: я не знал адреса Алеши. Но был, слава богу, домашний телефон. Я крутил диск: гудки, гудки — молчание. Неоновый дождь поливал телефонную будку, в стекла дробно стучали звуки вечерней улицы, блестело прямое русло мостовой, по которой бежали юноши и девушки на красный свет — бежали куда-то назад, от меня. Это убегало время, время моей юности. Но не все еще было потеряно: вот только дождаться голоса в трубке, и все вернется, закружит-завертит, вино и разговоры вернут наше прошлое.
Я выходил из будки и шагал по улице, потом сел машинально в какой-то трамвай. Езда немного успокоила, но чувство нетерпения все еще пульсировало во мне. И опять я звонил: гудки, гудки — молчание. Было уже одиннадцать, я решил возвратиться домой, но проблуждал по незнакомым улицам и вышел к своему дому без четверти двенадцать. Все еще надеясь, позвонил опять. Никто мне не ответил.
Утром я поехал в соцгород, район металлургов, там на задах, в поле, строился конверторный цех. Когда позади остались дома соцгорода и трамвай медленно стал разворачиваться, я увидел огромное, фантастически привольное, не сжатое вершинами домов небо; оно взмывало и падало на гребни синеющих вдалеке лесов. До стройплощадки я добирался пешком, уступая дорогу рычащим самосвалам. До котлована еще далековато, но было ощущение, что иду я где-то понизу: выше меня стояли земляные холмы, выше — краны, выше тянулись трубы эстакад; горизонт с каждою минутой сужался, а гребни синеющих лесов давно уже исчезли из поля зрения.
В котловане мне показали вагончик главного инженера. Контора стройуправления находилась в соцгороде, но в эти суматошные дни, я знал, Салтыков обретается здесь. Уже приблизясь к вагончику, я увидел Алексея. Он двигался широким шагом, простирая за собой полы демисезонного пальто, угиная голову, прикачивая ею в ответ собеседникам, идущим по бокам его. Перед самым вагончиком он крепко потопал, стряхивая с сапог ошметки снега и грязи, и, почти в точности повторяя его движения, потопали его спутники. Передо мной были вершители, затеявшие всю эту завораживающую кутерьму и прозревающие за этаким хаосом четкий, точный порядок будущего строения.
Он поднял глаза, еще хмурые, холодноватые, — короткая ослепительная улыбка, резко выброшенная вперед рука и сильное пожатие. И только потом — запоздалое мгновенное изумление, живые просительные искорки в глазах: потерпи еще минутку.
— На бетонный поезжайте сейчас же, — сказал он одному из спутников, — в одиннадцать я жду вас. А в одиннадцать тридцать буду уже у начальника комплекса. Сварщиков у Мигулина не забирайте, — сказал он второму. — Лучше переведите всю бригаду на подливку колонн.
Прежде, еще не видя меня, он говорил с теми двумя с деловитой, необидной краткостью, но мое появление что-то тут нарушило, естественная сдержанность вдруг обернулась сухостью, и те двое ушли, бросив на меня косые взгляды. Салтыков между тем отворил вагончик и подтолкнул меня легонько к порогу.
— Давненько у нас не были, — сказал он, подразумевая вообще газетчиков. — Но весной — обязательно, обязательно! Пойдет большой бетон, это стоит поглядеть. — Горделивые нотки в звонком голосе отдавали явным профессиональным высокомерием, это было неприятно, но потом я понял: всякий иной тон сбил бы его с толку, умалил бы его энергию, зоркость, без чего все это огромное хозяйство могло и залихорадить. Я решил, что ничего не скажу о вчерашних звонках, прикинусь, будто пришел по делу.
— Сведи меня с хорошим мастером, — сказал я. — А то пишем о ком угодно, мастера забываем.
— Мастера… — Он поморщился, отмахивая дым сигареты. — Мастера нынче эфемерная фигура — начальник не начальник, рабочий не рабочий. Так, погоняльщик какой-то. А бригадир — это, брат, хозяин. Вот и надо поднимать его авторитет. Соображай: люди у нас трудяги… герои. Непогода ли, организационные непорядки, головотяпство ли начальников — все спасает трудовой героизм. А кто сплачивает, кто руководит людьми? Бригадир. Народ с бору по сосенке — и романтики, и гепетеушники, и всякие. И всем бригадир отец-мать. Короче, я хочу четкой организации. Вот и начинаю с бригадиров. А там и до мастеров доберусь.
Краткие, чеканные фразы Салтыкова держали в напряжении, да я и не рассчитывал на умиротворяющую беседу в этакой деловой обстановке. Я поглядел на часы: было без пятнадцати одиннадцать, ровно в одиннадцать у него встреча с человеком, посланным на бетонный завод.
— Ну, а ПОР вспоминаешь? — спросил я вызывающе.
Он засмеялся:
— Как туманную юность. Да, как туманную юность, — повторил он задумчиво, но без тени сожаления. — А тут, брат, не до озорного творчества.
— Доволен?
— Доволен! — Глаза его смеялись. — Ей-богу, доволен! Страна, брат, строится, строитель — самая популярная фигура в настоящий момент.
Моя улыбка ничуть не смутила его.
— Тщеславия во мне нет. Просто приятно, когда ты действительно необходим. Знаю, скучно, но ничего мудреней сказать не могу. Да! — точно спохватился и, перегнувшись через стол, поглядел требовательно: — Не ты вчера звонил?