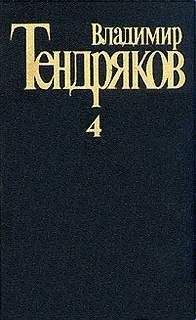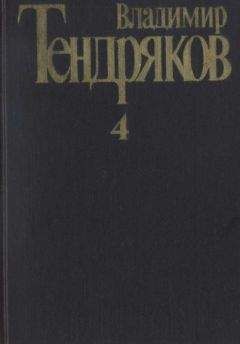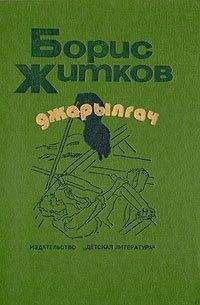Владимир Тендряков - Апостольская командировка. (Сборник повестей)
Инга примет твое бегство как предательство. Что ж, она по-своему права. Предательство, но последнее, чтоб больше уже не предавать никого. Простите, родные, вы ведь не захотите, чтоб я исчез иным способом.
Прости, Таня… «Избушка, избушка, стань ко мне передом, к лесу задом». Я уже не смогу рассказать тебе самой главной сказки о добром нищем.
И вот яркий майский день, башня Казанского вокзала в голубом облачном небе, очередь у вокзальной кассы:
— До Новоназываевки, пожалуйста.
До Новоназываевки не доехал.
* * *Стою сейчас посреди заброшенного кладбища, гляжу на облупленные стены заброшенной церкви, на пустую колокольню. Башня Казанского вокзала далеко в прошлом…
Ошибся, не там вышел, здесь бог давно не ночует. Надо искать дальше.
Отче наш, иже еси на небеси!
Да святится имя твое,
Да приидет царствие твое,
Да будет воля твоя
Яко на небеси и на земли.
Мне надо бога. Мне надо хлеба. «Даждь нам днесь».
Инга еще пока ни о чем не догадывается…
Часть вторая
Река нежно обнимает лобастый холм. С высоты холма, с крутого лбища в мутную, еще не улегшуюся после весеннего половодья воду глядит коренастая церквушка. Избы полуизумленно отбежали за реку, в гуще драночных и тесовых крыш стоят дома не кондово избяной, а казенной, под железом, постройки — здесь магазин, здесь школа, здесь контора колхоза, здесь центр села Красноглинки.
В Красноглинке единственная во всем районе действующая церковь, а потому я упрямо пробивался сюда.
В конце прошлого века Чехов добирался от Москвы до Сахалина без малого три месяца. Сейчас от Москвы до Сахалина лету каких-нибудь десять часов. Планета сократилась по размерам раз в двести!
Сократилась, но не всюду. Село Красноглинка теперь от Москвы дальше Сахалина, дальше Антарктиды. Я до него ехал шесть дней — сутки поездом и пять от станции через районный центр Густой Бор на случайных машинах. Пятисуточная одиссея по весенним непролазным дорогам: Чехов своим «конно-лошадиным странствием» сумел бы попасть сюда куда быстрее.
Во время пути у меня было достаточно времени разузнать о Красноглинке.
Первый человек там — некий Густерин, председатель колхоза, личность, судя по рассказам, легендарная. Никого в районе не били так строгачами, никого так часто не перебрасывали с понижением, не снимали с работы, как Густерина. По причине ли — «она меня за муки полюбила» или же «битый неслух ближе сердцу ласкового неука», но так или иначе, а нынче районное начальство, как к никому, относится к Густерину с уважением, хотя колхоз у него и не самый богатый…
Жила в Красноглинке еще одна личность, не менее знаменитая — поп Амфилохий. Он славился тем, что был красив, — даже неверующие девицы ездили из райцентра за тридцать километров в Красноглинку поглазеть на него и послушать. Он подписывался всегда первый на государственный заем, сразу выкладывал на стол многие тысячи, он красочно и вдохновенно ругал в проповедях греховную страну Америку и восхвалял космические спутники. Куда и как исчез отец Амфилохий — никто мне не сказал, но славу его хранят. Кто на его месте сейчас?.. А бог его знает, церковь-то действующая, значит, и поп быть должен.
Уборщица в районном Доме колхозника мне даже посоветовала, у кого могу остановиться в Красноглинке:
— Евдокия Ушаткова как перст одна, характером тихая, заботливая и не совсем еще стара, обиходить будет.
— Раз возле церкви живет, то, наверно, и в бога верит? — спросил я.
— Как не верить. Мужа-то у ней еще на фронте убили, а дочь лет десять тому назад похоронила. Замолишься. Да тебе-то что за беда, за свою веру она лишнего с тебя не попросит.
Евдокия Ушаткова — это то, что мне нужно.
Из окна избы тетки Дуси в наплывающих сумерках виден поросший молодой травкой тихий проулок, по которому бегают лишь отощавшие за зиму, со свалявшейся нечистой шерстью овцы. Над травянистым проулком, над черноземно-драночными крышами, над молодыми черемухами, даже над вскинутыми в небо на шестах скворечниками патриарше возвышается старая береза — ствол, как выветренная скала и угловатое переплетение костистых ветвей. Листья на ней растут местами — береза клочковато зелена, долгий век ее подходит к концу — усыхает.
Усыхает и Евдокия Ушаткова, тетя Дуся — маленькая голова туго стянута ситцевым платочком, на скулах сыренький вишневый румянец, нос острый, синичий, глаза запавшие, голубые, как поблекшие цветки ленка, суетлива, но без услужливости, разговорчива, но без назойливости.
— Уж не знаю, понравится ли тебе, сокол. Палаты-то мои не красны. Сама-то сплю в обнимку с горшками.
В просторной избе какая-то нежилая пустота, некрашеный, незатоптанный пол с узловатыми глянцевитыми сучками, могучие, проморенные временем, отполированные задами не одного поколения лавки, на пол-избы печь, выбеленная серой известкой, под ней щербатые горшки, стол со скобленой столешницей, иконы в углу, безликие, сумрачно копотные, возле них — жестяной висюлькой лампада. Мой угол за занавеской, там все место занимает деревянная кровать с холщовым грубым матрасом, набитым сеном.
Я разбирал свой чемодан, вместе с электробритвой вынул свою потрепанную Библию — на ветхом кожаном переплете оттиснут крест.
— Никак, свяченое? — удивилась тетка Дуся. — Уж не веришь ли в бога, сокол?
— Верю. — Мое первое открытое признание, конец моей нелегальщине.
— Ну-тко! Вот уж по виду не скажешь. Видать, и в городе бога вспомнили… А что это за книга такая?
— Библия.
— Ох-ти, батюшки! Дай хоть в руках подержу. Издаля видеть приходилось, а в руках не держивала. Не-ет…
Всю жизнь у нее не сходило с языка имя Иисуса Христа, всю жизнь старалась жить по законам, записанным в этой книге и… «в руках не держивала…». Грубые, растрескавшиеся пальцы сейчас робко гладят потрепанный переплет.
Втихомолку, про себя я переживаю минуту недоуменной растерянности: как же так, не зная, верила — чему и кому?.. Но подкупают искренностью грубые, жесткие пальцы, робко ощупывающие святую для тетки Дуси и совсем незнакомую книгу.
— Слышь-то, сказывают — в ней все начисто записано, что наперед будет. И война наша давным-давно была загадана, и жди, мол: сатанинское пламя возгорится, так плохо будет, так плохо — смерти все станут искать. Страсти господни, сохрани и помилуй нас! Правда ли это?
— Нет.
— Как же так?
— Наперед предсказывают цыганки-гадалки, да и те врут, не краснеют.
— А читал ли ты, молодец, книгу-то?
— Не один раз.
— И вещего слова не приметил?
— Не приметил.
Тетка Дуся вздохнула.
— Не каждому, видать, оно открывается… Тут в нонешнем году к нам на троицу старичок приходил. Вострый старичок, на память чесал, как по писаному… Неужели сам выдумал вещие-то слова, в жизнь не поверю!
— Хочешь, я прочту тебе то место, которое считают вещим?
— А то нет?.. Господи! Господи! Помилуй и спаси нас…
Тетка Дуся с бережностью присаживается к столу, прикрывает горсткой рот, помаргивает льняными глазками в ожидании чуда. Я открываю Библию на откровении Иоанна:
— Вот слушай… «Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны: она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи…»
— О господи! Господи!
— «…И помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя…»
— Страсти господни! Дым-то этот будто бы уже не раз выпустили для проверки. Бонбой особой.
— «Из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям…»
— Свят! Свят! Велик бог во небеси. Все мы черви под ним.
— Ну вот и твои вещие слова: «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них».
Тетка Дуся глядела на меня горестно раскисшими глазами.
— Как есть, все сказано, как есть…
Верит и страдает, рада бы не верить. Что же заставляет?..
Сила слова?
Саранча, подобная закованным в латы коням, жена, облеченная в солнце, зверь с семью головами и десятью рогами — далекие от жизни, потусторонние слова, бредовые образы, наивные страсти! Им трудно верить, но верят, уже много веков ждут в испуге нелепых предсказаний. Людей всегда страшит будущее, потому-то вера легко вырождается в суеверие.
— Как есть, все сказано. Ну, чисто все…
— Не прилетит из дыма саранча, не станет она мучить людей. Люди сами себя измучивают, рады свалить вину хоть на саранчу…