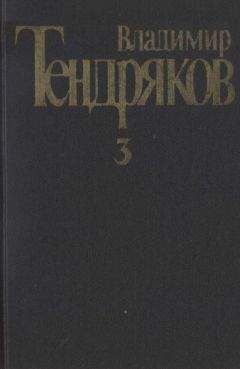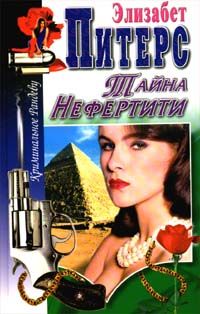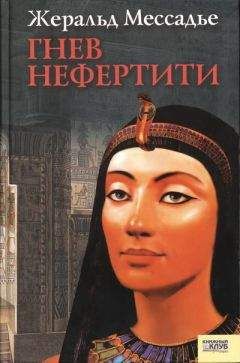Владимир Тендряков - Свидание с Нефертити
Федор напомнил Ивану:
— Ты что-то прежде не лез на баррикады. Откуда теперь такая прыть?
— Хлопцы, сами знаете, не вас учить — время сложное, на каждом шагу враг. А разные свистуны, вроде Слободко, врагам подсвистывают… Я вот тут об одном деле узнал — волосы встали дыбом. Может, мы с вами за одним столом с врагами чаи распивали.
Вячеслав не знал о Милге, но Федор сразу насторожился.
— Ты о каких чаях говоришь?
— Мало ли о каких. Не всякое-то можно сказать.
Губы Ивана Мыша были постно сжаты.
— А все же?
— Голову снимут.
— Пусть твоя осведомленная голова останется на своем месте, — нетерпеливо перебил Вячеслав. — Но за Слободко придется заступиться.
— Ну уж нет. Укрывать не собираюсь. Выступай ты, коли он тебе так люб.
Вячеслав, холодно прищурившись, похлопывая пучком кистей по ноге, бросил, словно укусил:
— Выступлю.
— Вот и добре.
— Выступлю и скажу, что выбрасываем способных…
— На здоровьечко.
— Способных выбрасываем, а балласт оставляем. Выступлю и задам всему институту один вопрос…
— Это уж твое дело, меня не касается.
— Вряд ли. Вопрос: почему Слободко должен вылететь, а Иван Мыш, человек с сомнительными способностями, остается?.. Ты же знаешь, что я красноречив и… не слишком стеснителен в выражениях.
— И чего ты?.. Ну чего он на меня накинулся? — Иван Мыш повернул красное, растерянное лицо к Федору.
— И я выступлю, — подкинул Федор. — Не сомневайся.
— Ну и выступайте! Напугали кошку большой крысой.
— Ах, не боишься, что тебя вслед за Слободко из института попрут?..
— Не боюсь. Сами знаете — сижу крепко. Не какой-нибудь гнилой декадент.
— Что верно, то верно — не декадент и сидишь крепко, ужился. Пожалуй, и не попрут, но шум да звон поднимется. Шум тебе, как сухопутной курице море, противопоказан. Учти — ты не водоплавающий. Будь здоров, деятель. Обдумай наши слова. Пошли, Федор.
В дверях они наткнулись на Православного.
— Старик! Я слышал!
— Ну и что скажешь?
— Скажу — ты порядочный человек, старик! Преклоняюсь!
— Слободко другого мнения.
— Слободко — кретин! Слободко — идиот! Слободко надо бить по субботам, чтоб поумнел.
— Я удовлетворен этим заявлением, джентльмены.
А вечером в комнате общежития уже при участии Православного снова насели на Ивана Мыша. Никто не сомневался, что он сдаст позиции.
10Общее институтское собрание состоялось через три дня. С докладом выступал доцент Белявкин.
Сколько трибунов прославились на века тем, что объясняли людям — во имя чего нужно поступать так, а не иначе. Во имя чего? Тот, кто решался бросить эти слова толпе, не должен быть серенькой личностью, он равен пророку.
Но странно, как только в институте появлялась, необходимость объяснять, во имя чего нужно действовать так-то, вылезал доцент Белявкин.
Под побитым молью стареньким пиджачком — тощее тело, кажется, что при движении рук суставы должны скрипеть деревянным несмазанным скрипом, лицо без морщин, а стариковское, потертое, голос ровный, утомляющий… Он читал курс по истории искусства, не излагал, не рассказывал, а именно читал из толстых тетрадей, которые студенты прозвали «гроссбухами».
Доклад длился два часа и двадцать минут. Сюрреализм, абстракционизм, имажинизм, субъективизм, экзистенциализм — к мудреным названиям немудреные эпитеты: гнилой, пресловутый, вырождающийся… А под конец:
— В здоровой среде нашего института замечаются единичные нездоровые явления. Студент четвертого курса Слободко…
Белявкин указал на жертву.
Объявили перерыв.
Федор и Вячеслав курили. Подошел Иван Мыш — очи опущены долу, губы поджаты по-старушечьи, громко сопит… Из-под локтя Мыша вынырнул Православный, жадно уставился Мышу в лоб.
— Ты вот что… — посопев, обратился к Вячеславу. — Ты не лезь, я все устрою… Ладно уж, хай живе та й здравствует ваш Слободко!
— Браво, старик! — крикнул Православный.
Иван Мыш обдал его отсутствующим затуманенным взором, повернулся и отчалил. Плыл по запруженному кучками курящих и болтающих студентов коридору, как баржа сквозь затопленный кустарник.
— Раскололся.
— Не водоплавающий.
Федор высказал догадку:
— Кажется, он уже с кем-то посоветовался, растоптал площадку. Не примерится — не ступит. Не из тех, чтоб рисковал.
А в стороне стоял Лева Слободко. Он похудел за эти дни, крылья челюсти выступали углами, но лицо какое-то выглаженное, ничего не выражающее. На него пытливо оглядывались…
Массивная фигура Ивана Мыта на трибуне — примелькавшаяся в институте картина.
— Товарищи! — внушительно, веско, значительно, словно сейчас прозвучит великое открытие — слепой мир станет зрячим.
Зал приготовился к дремоте.
— Товарищи! Я недавно попал в гости…
Уже интересно, не успевшие задремать возвели очи…
— Попал в гости вместе со студентами нашего курса. Считаю нужным назвать их. Значит, был я, был Вячеслав Чернышев, был Матёрин, был Шлихман и был Слободко. Нас приняли честь честью, не скрою, усадили за стол — лососинка, рюмочки, разговорчики… Да, разговорчики! Дело в том, что хозяин дома собирал картины. Какие картины, товарищи!..
Затылки, затылки, затылки… Каждого студента и каждую студентку Федор может узнать по затылку. Стол президиума под зеленым сукном, лица за столом, почти дежурные, не меняющиеся от собрания к собранию. За спиной президиума — гипсовый бюст Сталина, по стенам картины, оставшиеся от прошлого года с выставки дипломных работ: «Смерть партизанки», «Счастливое детство», индустриальный пейзаж, вовсе недурной… И возвышается на трибуне Иван Мыш. Все знакомо, все намозолило глаза и — новое ощущение… С таким ощущением на фронте Федор глядел на заминированные поля — рытвины, овражки, кусты полыни, — привычные до скуки, но не доверяй — каждый полынный кустик прячет смерть…
Иван Мыш говорит — заученные значительные интонации:
— Был спор, товарищи. Прямо скажу, бой. Должен заявить: достойных людей выращивает наш институт. Правильных! Не собьешь с позиции! Лососинка, рюмочки, ласковое обхождение, но не собьешь. Чернышев Вячеслав — гордость нашего института. Он грудью защищал нашу честь. Общипал, прямо скажу, хозяина, как гусака. А недавно раскрылось…
Иван Мыш выдержал значительную паузу.
Затылки, затылки…
У Вячеслава заострившееся, как у хорька, лицо.
— Товарищи! Раскрылось! Гусак этот не совсем простой!..
Иван Мыш всей своей массивной фигурой, подавшейся через трибуну на слушателей, изображает ужас. И много ли надо — действует, в зале тишина. Затылки, затылки, каждый выражает внимание…
— Гусак этот с заморской начинкой. Он недавно арестован как враг!..
Вячеслав дергается, растерянно оглядывается на Федора.
— Но кто поддерживал этого врага? Слободко поддерживал! Чернышев нападал, Чернышев защищал нашу общую позицию. Нашу с вами, товарищи! А Слободко бил в спину. Да, в спину! Дошло до того, что Слободко заявил, что хочет дать в морду Чернышеву. Вот до чего дошло, товарищи. И уж после этого Чернышев бросил правильные слова, товарищи: «В искусстве стоят баррикады. Кто не с нами, тот наш враг!» Баррикады… Слободко по ту сторону баррикад…
Вячеслав лязгнул зубами:
— Гад!
— Я был искренне убежден — гнать надо в шею таких Слободко, гнать из института!.. Убежден! Но недавно Вячеслав Чернышев спросил меня: «А так ли виноват Слободко?» Признаюсь, товарищи, я сначала опешил. Чернышев заступается за Слободко! Чернышев! Наша гордость… Непримиримый… И он заступается… Не верю своим ушам…
Голос Ивана Мыша ласково обволакивался вокруг имени Чернышева, а Вячеслав обернулся к Федору, стискивая зубы, сдерживая дрожь, выдавил:
— Эта горилла не так глупа, как мы думали… Эта горилла смеется над нами…
— Я задумался, товарищи. Крепко задумался! И у меня раскрылись глаза. А ведь Чернышев-то прав… Слободко, как на ладони, со всех сторон виден. Настоящий враг напролом не полезет. Он прячется, он толкает вперед простачков вроде Слободко. Чернышев открыл мне глаза, и я вспомнил… Слободко не сам познакомился с этим гусаком, его кто-то привел к нему за руку… Его привел и вместе с ним и нас! И мне стало ясно, товарищи… Ясно! Я понял, кто он!..
У Вячеслава словно пылью припорошено лицо, колючий, злой взгляд, сидит вытянувшись, мнет рукой горло.
— Кто он? Я назову… Пусть не удивляются — он тих, неприметен, он — рубаха-парень… Это Шлихман привел Слободко за ручку к врагу, Шлихман, товарищи…
Федор почувствовал, что деревенеет.
Федору было лет тринадцать. Бригадир попросил привезти с маслозавода пустую тару — несложное поручение для деревенского мальчишки.