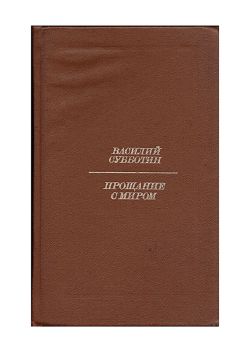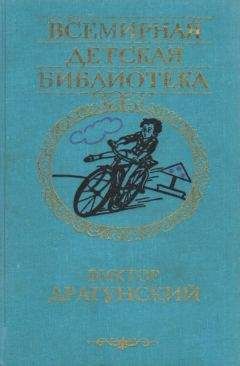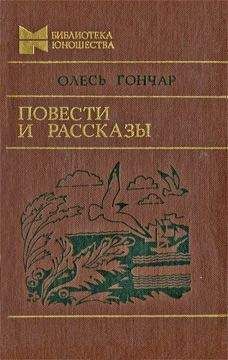Василий Субботин - Прощание с миром
Над протокой стоял нескончаемый треск разрывов, визг пролетающих над головой снарядов. Как будто в высоте там трясли, мотали из стороны в сторону какой-то гигантский, хорошо натянутый стальной провод. Сам воздух колебался от этого несмолкаемого грохота… Противник вёл теперь неприцельный, или, как еще говорят, изнуряющий огонь. Это так и начиналось: изнуряющий огонь. Беспрерывный методический обстрел из орудий.
Когда я посмотрел, высоту уже начали закреплять. Солдаты удерживавшей высоту роты, немного их осталось, подгоняемые страхом, торопясь, отрывали окопы, отдельные ячейки пока что, располагая их в шахматном порядке, с тем чтобы потом, когда их соединят ходом сообщения, получился зигзаг. Все вокруг было заболочено, а здесь, на высоте, был песок, копать было легче…
Следует сразу скачать, что никаких особенных укреплений у немцев на этой высоте не было, не оказалось. Тут были две обычных, я бы сказал, даже не очень глубоких, соединенных одна с другой траншеи. Одна из них проходила по самому гребню горы, другая — по ее восточному, обращенному в нашу сторону склону. Да на обратном скате несколько более или менее прочных, опутанных проводами блиндажей. Вот и все укрепления, какие тут были. Но зато она была плотно прикрыта огнем из глубины. Находящиеся за ней немцы могли точно корректировать и нести прицельно направленный артиллерийский огонь по всем нашим коммуникациям, держать под огнем своей артиллерии, как уже сказано, всю систему нашей обороны. Обзор, открывающийся немцам с горы, позволял им делать это.
Отсюда и действительно все далеко было видно, все прекрасно обозревалось. Дальше на запад от подножия горы тянулась стена хвойного соснового леса. А между высотой и лесом простирался огромный, пестрящий цветами луг. Он, этот луг, до самого леса был залит солнцем. Гигантское ликующее многоцветье трав. Было даже красиво. Отсюда, с горы, просматривалась проселочная дорога, ведущая к ближайшей, совершенно пустой, брошенной людьми деревне, поля вокруг и далее повороты дорог — все это можно было отсюда хорошо видеть.
Здесь, на гребне горы, в отличие от протоки, которую я только что перешел, было сейчас относительно тихо, лишь изредка на склоне где-нибудь взметывался столб разрыва явно вслепую посланного снаряда.
Когда я пришел, Кондратьев стоял над убитым командиром орудия, и в первую минуту я его не узнал.
Я и здесь пришел не к артиллеристам, а в пехоту, но как пришел, так и увидел его. Без пилотки, с прилипшей к мокрому лбу прядью волос, он стоял над лежащим у разбитого орудия сержантом, только что вытащенным наверх из-под своего опрокинутого взрывом орудия… Я помнил этого сержанта с того первого раза, когда был подбит «фердинанд» и я был у них. Он мне тогда, я помню, сказал: «А мы его по лаптям, по лаптям», имея в виду «фердинанда», его гусеницы. Мне очень запомнилось это выражение…
Убитого командира орудия Матвеева, так же как и эту гору, тоже звали Федей, Федором… С ним, с Матвеевым, прошел Кондратьев весь свой путь — от самых верховий Волги, можно сказать, и отрогов Валдая еще, до горы этой. Был он самым опытным среди других, самым старым на батарее. Теперь он лежал, прикрытый палаткой, возле опрокинутого, перевернутого колесами вверх орудия.
На войне все просто. Вообще надо сказать, что война страшно простая штука: только что человек был жив, ты разговаривал с ним, пил и ел с ним из одного котелка, и вот он лежит уже мертв, лежит, убитый у тебя на глазах…
Все это страшно именно своей простотой.
На берегу, за протокой, когда я выбрался наверх, лежали убитые лошади накрытой огнем маленькой противотанковой пушечки, которая, как и полагалось ей, переправлялась одной из первых, непосредственно вслед за пехотой. Запутавшись в упряжи, они лежали тут же, на склоне горы. Когда я проходил, один, вороной, еще дышал и страшно ворочал глазом.
Лошадей, как всегда, было почему-то особенно жаль.
Я уже потом, задним числом узнал: Кондратьев отбил на Фединой горе в тот день несколько немецких контратак.
На высоту туда был в первые минуты боя брошен вместе с пехотой одни только извод Кондратьева, его две пушки. Два других орудия батареи оставались на прежних своих запасных позициях, там, где они стояли и раньше.
Труднее всего было переправлять пушки через протоку, управлять лошадьми, под разрывами снарядов, под огнем. При подходе к протоке лошади послушно ухнули в воду, но взять берега не могли. Их били, на них кричали, но они срывались, пятились назад. Противоположный берег был не столько крутым, сколько вязким. Он был топким, обваливающимся, оседавшим под колесами и под ногами, под копытами. Трясина была страшная. Орудия пришлось снять с передков, а постромки накинуть на проушины, привязать постромки прямо к лафетам. После этого лошади сравнительно легко вымахнули на другой берег… И сразу, как только почувствовали под ногами твердую землю, — так туда, на высоту, на гребень ее, к пехоте!
Одно орудие было потеряно сразу, как только его вытащили наверх туда, подбито было прямой наводкой, когда не успели еще выбрать сколько-нибудь подходящую огневую. Снаряд попал прямо под колесо его. Второе поставили на скате, обращенном к немцам, там, где был сосняк редкий. Не успели окопать его, отрыть для него какую ни на есть огневую, как накопившиеся в перелеске немцы со всех сторон начали обтекать высоту. Кондратьев сам встал к орудию, единственному теперь. Стрелять надо было осколочными, а ключ, которым в таких случаях отвинчивают колпачки с головок взрывателей, в спешке, в горячке где-то затеряли. Пришлось отворачивать их зубами. По сути дела, Кондратьев с горсткой людей своего взвода и своим орудием остался в этот час один на один с лезущей на высоту немецкой пехотой. Оставшись один с заряжающим и подносчиком снарядов возле своего орудия (наводчик к тому времени тоже уже был ранен), Кондратьев вместе с находящимися на высоте немногими оставшимися в живых бойцами одной-единственной, хотя и усиленной, бравшей в тот день высоту роты отбивался от наседавшей на них немецкой пехоты…
Противник поставил по переправе такой сильный заградительный огонь, что в течение всей первой половины дня нечего было и думать о том, чтобы подбросить на высоту какое-либо подкрепление. Командира батареи, пытавшегося пройти к взводу Кондратьева, ранило еще утром.
Я пришел, когда контратаки уже прекратились и немцы оставили все попытки вернуть высоту. Когда я пришел, оно, это единственное орудие, тоже уже было в последнюю минуту разбито, припав на одно колено, оно стояло, уткнувшись стволом в бурую, вывороченную на поверхность земли глину. От взвода Кондратьева к тому времени осталось всего несколько человек. Перед тем незадолго старшина батареи принес обед, два бачка, в одном — суп, в другом — кашу, термос с водой принес, хлеб и махорку. Па целый взвод принес, но есть было некому да и не хотелось… В помощь обескровленной, почти целиком выбитой штурмовой роте подошли теперь другие, целый батальон подошел. Подтягивали артиллерию, минометчики оборудовали свои огневые по склону горы. С горы было видно, как две наших «тридцатьчетверки», выдвинувшись из леса, вели огонь. Выстрелив, танк отходил назад, маневрировал, а затем снова выдвигался, снова вел огонь.
Так и двигался на месте взад-вперед… Наша дальнобойная била в это самое время из-под горы. Вышедшие из леса, подтянувшиеся к протоке «катюши» заняли свои позиции на фланге, создав таким образом мощное огневое прикрытие для тех, кто находился на высоте…
А еще через день или два наша дивизия, а потом и вся армия в целом, весь фронт наш, время пришло для этого, перешли в наступление, пошли вперед.
Такова была она, эта высота, Федина гора эта, — одна из частых операций, какие происходили в эти дни, я думаю, не на одном только нашем, на многих других участках фронта.
Глава шестая
Не ожидал я встретить его здесь, в чужом этом госпитале, вдалеке от своих, и очень обрадовался ему. Как-никак мы имеете пробыли в одной дивизии почти дна года, встречались время от времени, да и день тот я очень запомнил — то, как мы ехали с ним в старой, дребезжащей ободьями армейской повозке через тот только-только начинающий пробуждаться лес, не проснувшийся еще окончательно от зимней спячки, но уже полный птиц, весь тот длинный, так запомнившийся мне день… Мы сели на белой, стоящей под деревом скамеечке и долго сидели здесь. Видимых следов контузии у него не осталось, он только немного заикался да как-то неожиданно, все так же, как и тогда, время от времени тянул головой, его как будто — все это даже не сразу, не вдруг замечалось — вело куда-то в сторону, стягивало ему шею. Он еще слегка прихрамывал, и в руках у него была палка.
Мы погоревали, что потеряли свою дивизию, отстали от нее и теперь не знали, когда мы в нее попадем.