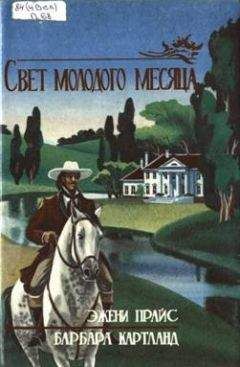Владимир Мирнев - Нежный человек
Мария рассмеялась.
– Я помню, как ты говорил, что император Цезарь-Коровкин очень даже неплохо звучит. Помню твою тщеславную замашку на такую высоту, что, вниз если падать, разбиться можно. Вот тебе и «моритури тэ салутант», дорогой Цезарь!
Они брели к метро и говорили, и так стало тихо кругом, что Мария оглянулась, будто сплошной поток автомобилей не исходил монотонным гулом, выбрасывая в воздух облака гари. Она прислушалась. Нет, гул не нарастал. А потоки автомобилей, захлестнувшие улицы города, неслись, и каждый – к своей цели. Коровкин и Маша остановились возле грота у зубчатой стены, о котором ходят слухи, что в нем бывший царь Константин, познав горе человеческое, хотел повеситься, умывал свое лицо, и вот однажды ему открылась страшная картина: будто в обрамлении черного круга всплыла на поверхность черная голова и предсказала царю страшную картину гибели царского рода.
– Вот видишь, какой красивый гротик, – Мария показывала на сооружение из камней, призывая и Коровкина полюбоваться. – А тебе не кажется, что Маша звуком похожа на Алеша? В начале «М», а потом «А».
И тут Мария рассмеялась, и все, кто ходил вокруг в тени аллей, под сводами деревьев, оглянулись на ее звучный смех и удивились, глядя на ее распущенные волосы. А Мария не замечала своих пышных волос, а если бы заметила, тотчас бы убрала их под сбившуюся косынку. Воздух тонко струился вверх, покидая темную землю и стремясь к крохотным облачкам, в задумчивости плывшим над городом. У нее так прозвенело в душе от тихого, таинственного вечера, что она почувствовала в самой себе удивительное чувство, когда кажется, что ты летишь.
– Алеша, давай полетаем, – сказала дрогнувшим голо-, сом Мария, беря его за холодную руку, и этого жеста оказалось достаточно, чтобы та необыкновенная легкость, свойственная людям, остро ощущающим отобранные у них когда-то природой крылья, появилась у Коровкина. Он пошевелил плечами, как бы чувствуя за своей спиной некие отростки крыльев. – Смотри, какой вечер! Смотри, как красиво! Помнишь, мы с тобой летали зимой? Помнишь? А теперь-то лето! Смотри, смотри кругом!
В тот самый момент, стоило им поближе подойти и ступить на ничем не примечательный камень, до которого не доходил ни один из людей, ищущих красоту, как Мария ощутила страстное желание взлететь. Душа ее так и рвалась вверх. Она взволнованно глядела на Алешу с таким желанием пронестись над деревьями, городом, людьми, что и Коровкин проникся тем же самым желанием, его окутала та же страсть, и он обхватил Марию за талию, что-то ей прошептал. И в тот же миг сердце Марии так и рванулось из груди. Так явственно было ощущение полета. Вот они легко и стремительно взмыли вверх, пронзая дурманящую атмосферу подлипового мира Александровского сада.
«Вслед за своим сердцем стремлюсь, – подумала с необъяснимой гордостью и радостью Мария. – И мастер со мною, торопится за моим сердцем».
У нее закружилась голова – словно в полете, и она, боясь упасть, поспешно спустилась со ступенек, присела на лавку, закрыв лицо руками, но ощущение полета не проходило, ей все казалось, что она летит, и не одна, а с Коровкиным. Мария чувствовала себя необыкновенно, было такое ощущение у нее, словно она давно летает и ей не привыкать. Вот она, откинув слегка руки назад и открыв от изумления рот, стремилась вперед, и волосы ее засветились ослепительным белым светом в лучах заходящего солнца. Встречные потоки воздуха мягко и плавно обтекали их. Коровкин от волнения обронил свою кепчонку и все старался подпрыгнуть, как будто хотел сесть на невидимого коня. А Мария ликовала. Вот они уже над городом и видели, как по земле ходили люди, двигались черные автомобили; отсюда и автомобили и люди казались маленькими, восхитительными козявочками, ползающими по земле. Мария переживала как наяву свое ощущение необыкновенного полета. Она не могла понять его, а перед глазами…
– Ах, несмышленыши, ах вы мои козявочки! – вырвалось у Марии из взволнованной груди. – Ползайте, ползайте, вам это очень даже на пользу; мы мешали вам, мы стесняли вас. Ах, жалко мне вас, козявочки.
Она заспешила в сторону солнца, и яркий свет слепил глаза; радужная оболочка, согнутая в три круга, окружала солнечный диск. Но им не больно было смотреть на солнце, наполнявшее их еще большим восторгом, влекущее летевших какой-то неведомой и никому не объяснимой силой.
Мария увидела каменную гряду Калининского проспекта, верхние этажи которого еще ловили лучи солнца, зеленой стрелкой взмыл затем Кутузовский проспект, а потом аллеями потянулись зеленые островки, переходившие в оазисы, внутри которых приютились красивые домики с прудиками, помещеньицами, с людьми, редко и одиноко пристроившимися с удочками. А далеко на юге проклюнулась Венера, и первая тень, качнувшись, спустилась на землю.
– Алеша, – зашептала Мария, не открывая глаз. – Смотри, мальчик плачет. Давай успокоим. Как хорошо каждого успокоить, погладить, пригреть. Слезы, слезы, слезы в мире! Ах, слезы! Зачем вы?
Коровкин не мог отвечать Маше и молчал, подчиняясь ее незримому приказу, как солдат. Когда он порою задумывался над жизнью, то казался себе маленькой козявочкой, которая ест, пьет, ходит, думает о своих незначительных делах и, главное, всегда довольна жизнью. Но в тот момент, когда его сердце неожиданно взрывалось и он коршуном рвался на высоту необозримую, как сейчас, откуда была видна вся жизнь человеческая до самой мелочи, – в такие моменты он чувствовал себя какой-то могучей личностью, обуреваемой фантастической мощью и способной на гигантские дела, и, ощущая в себе эту неохватную мощь, оглядывался, как бы ища ту самую точку опоры, которую безуспешно пытался найти один из крупнейших философов древнего мира, воскликнувший: «Дайте мне точку опоры, и я переверну земной шар!» В такие минуты Коровкин чувствовал в себе сосредоточенность большой силы.
Уже близилась ночь, и Мария спросила Коровкина, не улететь ли им навсегда туда, где заходит солнце, где перед ними откроется прекрасный и замечательной красоты мир, в котором можно жить припеваючи. Алеша и на этот раз ничего не ответил, и от его молчания Мария почувствовала тоску в сердце, и она открыла глаза. И сразу исчезло ощущение полета. И только сердце учащенно билось в груди, изо всех сил проталкивая во все уголки горячую взбудораженную необычными чувствами кровь. Уже закрывали в саду железные ворота, и милиционер, не заметивший их ранее, подозрительно посмотрел и спросил:
– А вам особого приглашения, товарищи влюбленные?
Мария промолчала. Но поразительно: усталости не чувствовала и в душе у нее плыл неутихающий восторг от явью промелькнувшего в душе полета.
ГЛАВА IV
Мария решила познакомить Коровкина с Аленой Топорковой и готовилась к этому событию тщательно.
Теперь Коровкин все чаще и чаще заходил к Марии. Он приходил, садился на лавку возле подъезда и молчал. В первые дни Мария, проходя мимо, будто не замечала его. А он сидел молча, глядел на нее, не произносил ни слова, как бы полностью соглашаясь: мол, недостоин внимания. Она приходила к себе, переодевалась, хмурилась, как бы уж и сама недовольная его приходом, а в душе ликовала от мысли, что Коровкин, приодевшись в свой новый костюм, при галстуке, явился к ее дому и сидел у подъезда, и ждал. Коровкин сидел и ни о чем не думал. Отношение его к самому себе претерпевало непрерывные изменения, и каждый новый взгляд Коровкина на себя и порядок мира отличался от прежнего, без преувеличения, отношения к нему Марии.
Раньше он считал себя красивейшим из мужчин, лишь при виде которого были счастливы бесчисленные полчища женщин, населявшие землю, жаждавшие от трудно сдерживаемой к нему страсти разорвать его на части и носить с собою хотя бы клок его волос. В те сладкие мгновения Коровкин чувствовал себя так, будто гарцевал на жеребце в цирке – спина прямая, острое и жутковатое ощущение скрытой силы, как у Печорина, симпатии к которому неизменно возвращались; взгляд умный, но надменный, как у Герцога Орлеанского или у Суворова во время штурма Измаила, простая, но достаточно изысканная одежда, как у генерала де Голля, когда он приезжал в Москву.
Следующей полосой стало стремление обратиться в делового человека, для которого превыше всего в жизни – честное отношение к делу и своему слову. Избирая манеру поведения, мастер соответственно подстраивался, говорил коротко, отрывисто, устраивал на работе короткие, но насыщенные информацией «летучки», на которых давал четкие, продуманные заранее указания. Иногда Коровкин представлял себя ученым, много читал книг по истории. Особенно Плутарха. Но затем как-то так получилось, им завладела идея великого человека, проявившаяся в стремлении смотреть на жизнь философски. Однажды, получив получку в сто двадцать рублей, Коровкин направился в ресторан «Космос», заказал обед, поражая официантов и иностранцев роскошью и изысканностью заказанной пищи, включая две бутылки французского коньяка «Наполеон», напустил на себя безразличный вид, медленно ел и пил. Главное, никто не подозревал, что в это самое время Коровкин изображал из себя великого человека. Весь коньяк он в тот вечер не смог выпить, как не смог съесть и всю обильную, богатую пищу, но зато на две недели до самой получки, как говорят, положил зубы на полку и питался одним черным хлебом, купленным на деньги, одолженные соседом. В бытность свою великим человеком живот от голода у него так скручивало, что он не мог даже читать книг по философии, которыми, по его мнению, должны увлекаться великие люди.