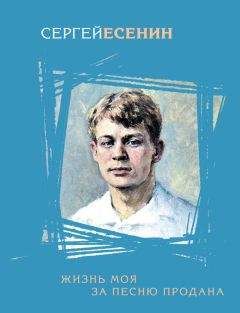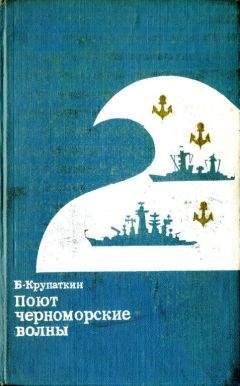Константинэ Гамсахурдиа - Похищение Луны
— А разве ты сам не бываешь печален? Ты ведь часто жалуешься на меланхолию.
— Что же из этого, что жалуюсь? Разве я когда-нибудь утверждал, что меня разумно воспитали? Я больше тебя подвержен недугу меланхолии, и это понятно. Возможно ли оставаться жизнерадостным, слушая Шопена, начитавшись Шопенгауэра и Сведенборга, глядя на развалины Помпеи?
Впервые о смерти меня заставили задуматься Шопен и Шопенгауэр.
Одно время у меня была привычка: как приеду в чужой город, прежде всего спрашиваю, где здесь река?
— Почему?
— Да потому, что я вырос у берегов реки и до страсти любил воду. С юных лет я затаил в душе мысль: если когда-нибудь захочу покончить самоубийством, то приму смерть от моей любимой стихии — воды.
Но однажды я купался в Дунае, близ Вены. Вдруг у меня свело дыхание, ослабели руки, и я, как камень, пошел ко дну. Спасли рыбаки. С тех пор я решил никогда не топиться.
— Ну, а если ты все же решишься на самоубийство, какой выберешь способ?
Тараш задумался.
— Стрихнин? — подсказала Тамар.
— Боже упаси! Стрихнин — это женское дело. Я прибег бы к своему охотничьему кинжалу или к револьверу. Это мужественнее. Когда я сидел в тюрьме, я не спускал глаз с револьвера моего надзирателя. Заранее решил: если понадобится, — наброшусь, отниму оружие и покончу с собой. Еще и теперь, перед тем как лечь спать, я кладу под подушку заряженный револьвер.
И все-таки я не поддаюсь, не хочу поддаваться грусти. Мне хочется поздороветь, излечиться запахом родной земли. Хочу победить в себе все чуждые нам привычки, вернуться к своему народу.
Хочу побороть мрачность, вывезенную из туманных стран. Потому я принял участие в скачках, потому охочусь, хожу по горам, — чтобы неугомонная кровь моего деда снова зашумела в моих жилах, чтобы я вновь обрел крепость ног и мужество моих предков.
Человек каждую минуту должен быть готов к смерти, но он не должен ныть, лицо его не должно отражать ни тоски, ни страха. Надо всегда иметь такой вид, будто ты собираешься на пир.
Греческая философия по своей сути пессимистична, и все же греки жадно наслаждались каждой минутой жизни. Потому в их быту, в их искусстве было столько света и радости.
В древней Грузия то же.
Нашему христианизму чужд мрачный мистицизм Запада. Наша поэзия тоже полна света, радости и солнца.
Надо радоваться тому, что ходишь по этой мягкой траве, смотришь на это солнце, облака, виноград, на эту крепость Сатанджо.
Меня же больше всего радует то, что я сегодня иду рядом с тобой, иду и гляжу на твои косы, на твои плечи, слышу звук твоих шагов на этой прекрасной земле. Молод я и силен, и кажется мне, что ради тебя я мог бы разворотить жилище дэвов.
Засмейся же, милая! Видишь, как хороша эта красношейка — вон та, что присела на ясень и чирикает. Надо уметь довольствоваться даже крупицей счастья.
Тамар улыбнулась. Взглянув на маленькую птичку, залюбовалась ее чудесно расписанной грудкой.
— Засмейся, милая! Знай: только раз в день встает солнце, молодость также дается только однажды. Успеем нагореваться, когда попадем в царство призраков. Некоторое время они шли молча.
— Говорят, что ты обручена? — вдруг спросил Тараш.
Тамар отвернулась, скрывая улыбку. Потом, сделавшись снова серьезной, спросила:
— А если бы и так?
— Ничего… Мне сказал Шардин Алшибая.
Тамар продолжала молчать.
— Правда ли, что ты и Арзакан собираетесь пятнадцатого ехать в Тбилиси? — спросил Тараш.
— Да, мы хотим поступить в институт. Ведь ты перегнал нас всех. Ты успел уже объездить весь мир, имеешь научные труды.
— Ах, лучше бы вместо этого я остался здесь с вами, не учился бы и не знал ничего!
— Ты долго пробудешь у нас?
— Я и сам не знаю. Если университет примет мое исследование, вероятно, меня пригласят на кафедру. Если же нет, то, может быть, я отправлюсь в горы Абхазии и останусь там навсегда.
Стая диких уток пролетела к морю. Тараш проследил взглядом их полет. Затем снова взглянул на Тамар и тихо произнес.
— Ты чем-то расстроена?
— Да, я видела плохой сон.
— Сон? Какой же?
Тамар рассказала, и ей стало легче.
Вдруг донесся грохот поезда. Она вспомнила о газетах, но ей не хотелось уходить от этого прекрасного молодого дубняка, который никогда еще не встречал ее так приветливо.
Они гуляли, разговаривая вполголоса и забыв о времени.
Воздух был необыкновенно легок. Невысокие крепкие стволы дубков пробуждали в их сердцах ощущение здоровья и счастья.
В лесу попадались просеки, там и сям хлеб был сжат и сложен в копны. На очаровательных полянках росли незабудки и ромашки.
Дикие голуби, вспугнутые шумом шагов, хлопали крыльями. Из-под зеленых зонтов тутовых деревьев вылетали горлицы и, воркуя, устремлялись на одиноко стоявший дуб.
— Значит, ты все еще горюешь из-за пропажи алмазного крестика? Ах, этот Христов крест! Знаешь ли, когда изъездишь Европу от края до края, и всюду — в каждом городе, в каждом селении — видишь церкви, увенчанные крестом, то просто диву даешься, что какой-то незаконнорожденный сын плотника из маленькой Палестины распростер над всем миром свой мрачный символ. Наша страна тоже стала его жертвой. В средние века, когда немцы в Вене дрожали от страха перед турками, наша кавалерия билась с ними под Эрзерумом.
Я должен охладить в тебе эту привязанность к кресту. Мое сердце стремится к языческой радости, твое же дребезжит, как разбитый илорский колокол.
Тамар не возражала. На лице ее показалось выражение непривычного смирения. Но Тараш увидел за этим смирением не готовность повиноваться, а скорее терпеливую готовность выслушать все доводы и нападки, не уступая ни в чем.
— Мне тоже жалко, что твой крестик пропал, — продолжал Тараш. — В моих глазах он был не предметом культа, а произведением грузинского ювелирного искусства. Я представляю себе, с каким благоговением выделывал его мастер. А сейчас гнусный спекулянт таскает его по Тбилиси, и какой-нибудь европейский коммивояжер купит его и подарит своей парижской любовнице. А может случиться и так, что современный невежда-ювелир переплавит этот крест, чтобы отлить аляповатый медальон, или для украшения винного ковша. И ненасытность будет жадно пить из него.
Алмазы, наверное, вставят в серьги, а они засверкают в ушах константинопольских и парижских кокоток.
Таким образом, твой крест причтется к несчетному количеству сокровищ, похищенных из Грузии. С этой точки зрения обидно и мне.
Но должен тебе сказать: я ревную тебя к Христу, потому что ты до сих пор не могла вырвать из своего сердца такую великую любовь к нему. Тамар взглянула на Тараша.
— Не говори так, Тараш, — сказала она.
Опередив его, сорвала незабудку, росшую у дороги, и нервно стала обрывать ее лепестки.
— Ты говоришь — ревнуешь? Какое ты имеешь право ревновать меня к кому-нибудь?
— Я? Право? — воскликнул Тараш.
Нагнав ее и положив руку ей на плечо, он скользнул взглядом по ее щеке, по слегка надутой губке, окаймленной пушком.
— Я — и право? Ха-ха-ха! На этом свете у меня нет ни прав, ни доли. Я обездоленный человек. На небе для меня нет бога, на земле — друга. Знаешь, Тамар, по временам от одиночества меня охватывает такая тоска, что начинает казаться, будто я с другой планеты спустился сюда на парашюте.
Обладай я счастьем, разве я очутился бы на чужбине? Я не разменивал бы там свою душу, и только твое сердце было бы моей единственной святыней.
Его голос доносился до слуха девушки, как звон далекого колокола. Она молча ощипывала лепестки незабудки и бросала их на землю. Думала: «Верить или нет?» Наконец в руке осталась одна общипанная головка цветка.
— Скажи, Тараш, скольким женщинам говорил ты то же самое? — спросила она, отшвырнув стебелек.
— Что ты, Тамар?
— Говорят, что ты непостоянен.
— Правда, я растратил немало чувств на чужбине, но порой наше сердце похоже на Черное море, бирюзовое море… Множество мутных рек впадает в него, а все же оно — самое прекрасное, самое чистое из всех морей!
И он рассказал Тамар скорбную повесть об утраченных годах своей юности, о своих мытарствах в чужих странах.
— Ютясь в мансардах, я не переставал в бессонные ночи тосковать по материнской ласке. Отец мой, одержимый меланхолией, переезжал из города в город и часто бросал меня одного где-нибудь в дешевеньком отеле.
Месяцами жил я впроголодь, дожидаясь денег от отца и письма от матери, один в подозрительных, жутких гостиницах, где днем соблюдался бюргерский порядок, а с полуночи начинались пьяные ссоры между проститутками, их клиентами и хозяином заведения.
Потом наступило время, когда забурлила кровь. Моей юношеской страстью завладела светловолосая женщина. Белокурая порода женщин сильнее привязана к жизненным радостям, чем наши брюнетки — меланхоличные аристократки любви.