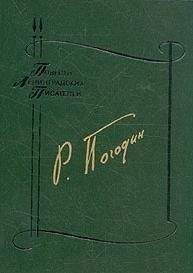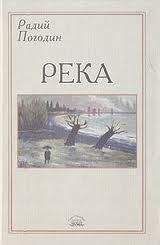Радий Погодин - Я догоню вас на небесах (сборник)
— Однако ты его спас.
— Слаб человек. — Машинист стар, старше мельника, и желт лицом. Раньше он работал на Березниковском химкомбинате, там все желтые.
Мельник ушел. Пришла Феня. Машинист встретил ее радостно, хлопотливо.
— Феодосьюшка, чего они тебя ко мне не назначат? С привидениями у огня нельзя — жар. Привидениям возле воды лучше.
Феня подкинула поленьев, спросила машиниста:
— С чего вы не любите Ивана Наумовича?
— Кулак. С чего же его любить? Я, к примеру, тоже сидел, но я за пьяную поножовщину. По молодости — горяч был. А он — кровопийца беднейших слоев.
— А его вы почему невзлюбили? — Феня кивнула на меня.
— А его я никак. Я его и не вижу. Говорю — привидение. Может быть, от него мокрицы заводятся.
До конца смены Феня проработала со мной.
Сейчас, глядючи на молодых атлеток по телевидению, я говорю себе: «Безусловно, они красивы, даже толкательницы ядра, но Феодосья была бы среди них как Диана среди коряг». Она играла двухметровыми толстыми бревнами, которые я отодвигал в сторонку, поскольку были они мне более чем непосильны.
На следующий день Феня тоже пришла. Я попросил ее дать мне самому отстоять смену. Говорю — сиди, уроки учи. Но не сдюжил.
Феня еще дней десять приходила. Затем локомобиль остановили — в топке свод прогорел. Не от моих трудов — от времени.
Разобрали мы с машинистом печь. Починили стены, затерли огнеупорной мастикой. Начали свод выкладывать по лекалу. Дело нехитрое — в подмастерьях-то.
Выложили мы с машинистом свод, выложили портал. Стали печь сушить. Потихоньку протапливали. А потом и затопили.
Тут в поселок и прислали поляков, двух здоровенных молодых мужиков. Меня от кочегарского дела отстранили — мужики есть. Перевели на волю, в столбовые монтеры. Когти через плечо, заявки от населения в карман — и пошел на ремонт и профилактику электропроводки. Но вот что странно: печную трубу починят, крыша прохудилась — залатают, забор накренился — подопрут, электрические провода пересохли, изоляция сыплется, нитяная оплетка истлела, медь голая — ноль внимания.
Со столбов мне видна была Чусовая. Красивая река, темная, крученая, громкая. Меня все сильнее тянуло на высокие скалистые ее берега.
Со столбов я и сделал одно полезное для себя открытие. В поселке, в домах, было мало радиоточек. Война гремит, последние известия не радуют. Народ набивается, тревожный, к моей хозяйке Клаше Иноковой, спрашивает: «Клаша, как там на фронте? Чего муж пишет?»
— Давайте я вам радио проведу, — говорю им.
— Так небось дорого, парень?
— Чего ж дорого? Я вам проведу и зарегистрирую. Потом будете в контору платить раз в квартал.
— Так-то оно конечно. А враз — за проводку?
Тут я почувствовал, что в руки мне упала жареная курица.
— Ну, стоимость репродуктора. — Кивают. — И за работу — сколько дадите…
— А сколько дать?
— Ну, котелок картошки. Пузырек масла. Огурец.
— А к огурцу? — Ждут чего-то, смотрят на меня печально. И тут я понял.
— Непьющий я, — говорю. — Мне бы поесть.
Дело радиофикации пошло быстро и для меня с большой пользой, мне не только давали картошку, шаньги, пельмени, иногда даже сало, но уже потом, завидев меня на столбе, кричали: «Монтер, зайди, щи поспели».
И все равно даже радиофицированные женщины набивались к Клаше и спрашивали: «Клавдия, как там на фронте-то? Что муж пишет?»
Клаше на постой дали двух поляков, Збышека Валенко и Томаша Вишневского из Варшавы. Збышека я уже видел, его привел начальник производства на паровую машину, когда меня подменяла Феня. Я тогда на табуретке сидел, отдышивался. Феня была разяще прекрасна. Но и Збышек не в замазке — с глубокой ямкой на подбородке и разбойничьими черными глазами.
Збышек меня узнал сразу, предложил «Беломор». Но я не курил. Какой постный герой — не пьет, не курит. Все дурные привычки у меня появились уже после войны, а тогда мне шел семнадцатый год.
Клаша на Збышека озорно смотрела, и он ей говорил: «Пенькна пани — красивая девушка».
Свекровь Клашина ходуном ходила:
— Какая девушка — двое детей, муж на фронте.
— Красивая пани — всегда девушка, — говорил Збышек, и все смеялись, даже свекровь смеялась.
В доме кроме шуток и смеха появилось чувство тревоги, ожидание какой-то шальной беды.
Через три дня я наткнулся вечером в сенях на целующихся Збышека и Клашу. Клаша стояла в углу, выставив колено, и отталкивала Збышека:
— Отстань, поцарапаю.
Я выскочил из сеней на улицу. Вслед за мной и Збышек вышел.
— Кошка, — сказал он. — Если да, то не надо когтей.
— А если нет? — спросил я.
— Какое — нет, — Збышек фыркнул. — Я об нее все ладони обжег.
Подошел Томаш. Послушал и объяснил мне, кивнув на Збышека:
— Юрный пан, — в его интонации, хоть она и казалась бодрой и, может быть, даже как бы восхищенной, отчетливо прослушивались презрение и усталость.
— Больше куражу, Томаш, — сказал ему Збышек. — Еще Польска не сгинела. Еще вудка не сплешняла…
Зачем их прислали в Кын, поляки сами не знали. Они знали, что где-то в России должны организовать большие лагеря для поляков. Там будет формироваться армия, чтобы идти на Гитлера.
Я еще несколько раз натыкался на Клашу и Збышека, и всегда Клаша стояла, вжавшись в угол и выставив колено вперед. Свекровь шептала ей за печкой, что убьет ее, если пузо увидит: мол, сын ее на фронте не для позора. Клаша так же зло отвечала, что у нее у самой голова есть и все прочее, чтобы этого не допустить. И обе вздыхали — свекровь тоже была не старая.
— Ох какой змей, — сокрушалась она с каким-то стоном. — Бес черный. Глаза-то варнацкие.
А Збышек, доведенный Клашей действительно до черноты, разрушал топку локомобиля, швыряя в нее дрова, как если бы он швырял камни в голову Гитлера.
И вот именно в этот самый момент наивысшего Збышекова горного кипения и страдания я увидел его со столба под вечер на Чусовой с Феней. Он вел Феню за руку и торопился. И она шла за ним. А когда он вдруг, притиснув ее к березе, впился ей в губы губами, а левой рукой попытался смять ее несминаемую грудь, у Фени подкосились ноги, казавшиеся всем такими незыблемыми. Она, наверно, упала бы. Но тут из кустов вышли детдомовские пацаны и девчонки во главе со Скулой.
— Фенька, хватит, — сказал Скула. — До края дошла, стерва. Иди домой. А тебя, пан, если еще раз с Фенькой увидим, порежем. — На Скуле был надет пиджачок, и вот из рукава этого пиджачка выпала ему в ладонь финка. — Кишочки вынем. Разумеешь? — Скула был из Смоленска. Он был эрудит.
Феня заслонила было Збышека собой, но Скула мирно сказал ей:
— Пошла, Фенька, пошла. Уроки делать. Мы пана сегодня резать не будем.
Феня побежала. Я со столба слез, оказался на ее пути. Возле меня она как бы споткнулась.
— Сволочь! — сказала. — Дистрофик вонючий. Падаль!
Збышек мимо меня прошел молча. В его черных глазах, как в камне-кровавике, горел мрачный красный огонь.
— Они думают, ты нас навел, — сказал Скула. — Не вовремя ты подсунулся. На пана нам наплевать, но Фенька тебе не простит. Она дурная. Что в голову себе заберет, не своротишь. Феньке говори не говори… Нас мельник натырил — сказал, что пан ее водит… — Скула закашлялся. Мальчишки-детдомовцы курили крапиву и мох.
Збышек весь вечер молчал, глаза от меня отводил. Отводил он глаза и от Клаши. Томаш позвал меня на улицу и, прикуривая, попросил:
— Ты Клаше про ту девоньку не говори, про Феню. Я предупреждал Збышека. Думаешь, зарежут?
— Полезет — зарежут. Она им как мать и как сестра. И как знамя надежды.
— Какое ж из девки знамя? Девка — она и есть девка.
— Девка — может быть. Но Дева!..
Томаш долго разглядывал меня, прищурясь. Долго курил, потом сказал горько:
— Дева, конечно. — Он лучше Збышека говорил по-русски. В Варшаве у него была жена и две дочки-школьницы. У него была их фотография. «Цурки мои», — говорил он. Он был капралом. Збышек был рядовым. Оба они давно подали заявления, что желают воевать с фашистами в рядах Красной Армии.
На следующий день я пришел к мельнику, рассказал ему о вчерашнем.
— Потерпи, — попросил он. — Не говори ей. Тебе легче. Она сейчас всякую любовь в ненависть обращает.
На каком-то пути, похожем на лабиринт, моя блуждающая эгоистическая душа набрела на желание спросить у мельника, знает ли он что-нибудь о своей семье. И я спросил.
— Нет у меня семьи, — сказал мельник. — Сыновья еще тогда от меня отказались. А жена давно умерла. — Ни обиды, ни желчи в его словах не было, и потому естественно прозвучали его с безразличием сказанные слова: — Сыновья воюют на фронте или в партизанах. Где же им быть. Им можно, они красные. А мне нельзя. Я, видишь, без родины, поскольку родина, она, видишь ли, парень, классовая. Не Богом, не отцом с матерью данная, а каким-то, парень, классом.